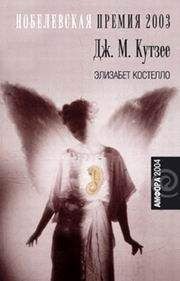— Мне хочется рассказать вам, госпожа Костелло, — продолжает Мёбиус (голос ровный, манера говорить уверенная; эта женщина прекрасно владеет собой и ситуацией, не из категории «легковесов», это точно), — о впечатлении, которое произвел на меня «Дом на Экклс-стрит» в студенческие годы. Это были семидесятые. Я прочитала роман Джойса от корки до корки, я написала о нем работу, я проштудировала всю критику — в особенности то, что относилось к Молли Блум. Ортодоксы были едины: по их мнению, в этом романе Джойс наконец-то дал прозвучать голосу женской плоти, открыл для литературы тему чувственности как доминирующую черту женской натуры, и далее всё в том же ключе. А затем я прочитала вашу книгу и поняла, что совсем не обязательно рассматривать Молли в тех рамках, которые установил для нее Джойс. Такая как она вполне могла бы быть интеллектуалкой и увлекаться музыкой, могла бы иметь много друзей; у нее могла бы быть дочь, с которой у нее сложились бы доверительные отношения… Должна сказать, для меня это стало открытием. И это заставило меня задуматься о других женских персонажах, которым дали жизнь и слово авторы-мужчины. Согласно расхожему мнению, писатели совершали это во имя освобождения женщины, однако, если присмотреться, все в конце сводилось к утверждению и пропаганде именно мужской точки зрения, чисто мужского взгляда на порядок вещей. В данном случае я имею в виду героинь романов Дэвида Лоуренса, но если заглянуть еще дальше, то можно упомянуть Тэсс из рода д'Эрбервиллей или ту же Анну Каренину. Я понимаю, это очень глубокая и серьезная проблема, но мне хотелось бы услышать ваше мнение — не по поводу одной Молли Блум и ей подобных, а по поводу необходимости пересмотреть взгляд на предназначение женщины в целом.
— Знаете, пожалуй, мне нечего добавить. Вы высказали всё очень точно. Разумеется, тут следует играть по-честному: мужчинам тоже пора по-новому взглянуть на таких персон, как Хитклифф и Рочестер, вне романтических стереотипов, не говоря уж о старине Казабуне. Полагаю, это было бы очень любопытно. А если серьезно, то нельзя вечно паразитировать на классиках. Разумеется, это касается и меня. Настало время изобрести что-то самим.
Нечто новенькое, такого высказывания сценарий не предусматривал. Интересно, куда это ее заведет? Увы, красотка Мёбиус (которая украдкой уже поглядывает на часы) тему не подхватывает.
— Местом действия последних ваших романов опять стала Австралия. Скажите, пожалуйста, что для вас Австралия? Как вы ее воспринимаете? И что для вас значит быть австралийской писательницей? Австралия не близкая страна, по крайней мере для американцев. Когда вы пишете, есть ли у вас ощущение, будто вы описываете нечто, происходящее в дальнем далеке?
— Любопытное выражение. Боюсь, что очень немногие австралийцы согласились бы с таким определением. «В дальнем от чего?» — спросили бы они. Правда, в нем есть доля истины, хотя мы тут ни при чем, эту роль навязала нам история. Австралия не любит крайностей. Мы люди, в общем-то, миролюбивые, но в то же время Австралия — страна экстремальных ситуаций. Мы выживали и выжили в них, исходя из принципа: когда падаешь — не надейся, что тебя внизу поймают. А иного выхода и не было.
Ну, пошло-поехало! Дальше можно не слушать.
Мы кое-что пропустим и перейдем прямо к главному событию вечера, к самой церемонии награждения. Как сыну и сопровождающему, Джону отведено место в первом ряду, среди почетных гостей. Женщина справа от него называет себя и говорит:
— В Альтоне учится наша дочь. Она пишет дипломную работу о творчестве вашей матушки. Она ее горячая поклонница и заставила нас с мужем прочитать все книги Элизабет Костелло.
Дама касается запястья сидящего рядом с ней мужчины. С первого взгляда ясно, что это люди с очень большими деньгами и не нувориши. Наверняка спонсоры колледжа.
— В нашей стране очень любят книги вашей матушки. Особенно молодежь. Передайте ей это, пожалуйста.
По всей Америке юные особы пишут научные работы о творчестве матери. Поклонники, последователи, ученики… Любопытно, обрадует ли мать то, что в Америке у нее развелось столько учеников?
Саму церемонию мы пропустим. Вообще-то не полагается то и дело прерывать повествование, ведь его эффект зависит от того, насколько удается загипнотизировать слушателя или читателя, ввести его в некую дрему, когда реальность постепенно теряет свои очертания, уступая место миру, созданному воображением автора. Когда это состояние внезапно нарушают, искусственность конструкции сразу становится заметной и иллюзия правдоподобия рассеивается. С другой стороны, если не делать купюр, можно застрять на одном месте на полдня. Пока что пропуски относятся не к тексту, а к шоу, которое мы описываем.
Итак, награда вручена. Мать остается на подиуме одна. Сейчас она начнет свою тронную речь под названием «Что такое реализм». Она водружает на нос очки, произносит приветственное «Уважаемые дамы и господа» и начинает зачитывать текст:
«Моя первая книга вышла в 1955 году. Тогда я жила в Лондоне, который в те времена считался культурным центром для индивидуумов диаметрально противоположных взглядов. Я до сих пор в мельчайших деталях помню тот день, когда мне принесли бандероль с первым авторским экземпляром. Разумеется, я была в полном восторге. Еще бы! Наконец-то у меня в руках моя собственная книга — настоящая, в переплете, отпечатанная в типографии, — неоспоримое доказательство моего успеха. Но что-то меня грызло. Я позвонила в издательство, спросила, разосланы ли по библиотекам обязательные экземпляры, и успокоилась лишь после того, как меня уверили, что во второй половине того же дня экземпляры моей книги будут отправлены в Библиотеку Бодлея в Оксфорде, в Шотландию и далее везде, но главное — в Библиотеку Британского музея. Попасть на книжную полку в Британский музей всегда было моей заветной мечтой. Еще бы — стоять рядышком с прочими знаменитостями на ту же букву — с Карлейлем, Кольриджем, Конрадом! (Судьба подшутила надо мной: моей ближайшей соседкой по полке оказалась Мария Корелли.) Сейчас подобная наивность может вызвать лишь улыбку, но в то время за моим беспокойством по этому поводу скрывалось нечто вполне серьезное, хотя и довольно неприглядное, в чем признаваться сейчас не очень приятно.
Постараюсь объяснить, что я имею в виду. Автору хочется верить, что даже если из общего тиража исключить заведомо обреченные на гибель экземпляры — переработанные как вторсырье за невостребованностью, забытые в гостиницах и поездах, вызвавшие после прочтения первых десяти страниц отчаянную зевоту и отложенные навсегда, — то останется хотя бы один экземпляр, который будет прочитан и которому будет предоставлен кров, то есть постоянное, собственное место на книжной полке. Моя тревога по поводу рассылки обязательных библиотечных экземпляров объяснялась желанием, чтобы и мой первенец имел бы свой дом, где — даже в том случае, если назавтра меня ожидала бы смерть под колесами автобуса, — он мог бы уютно подремывать хоть сотню лет без опасения, что кто-то будет тыкать в него палкой, проверяя, жив он еще или нет.
Итак, причиной моего звонка отчасти было желание убедиться в том, что и после того, как я перестану существовать в телесной оболочке, я останусь жить в своем творении».
Элизабет Костелло продолжает распространяться по поводу быстротечности славы, но это мы можем безо всякого ущерба пропустить. Двинемся дальше.
«С другой стороны, — продолжает она, — даже Британский музей с его коллекцией не будет существовать вечно. Когда-нибудь и он разрушится, исчезнет с лица земли, и книги на полках его превратятся в прах. Однако еще задолго до того, как книжные листы начнут распадаться под воздействием кислот, на полках будет становиться все теснее от новых поступлений, и тогда все нечитаемое, все ненужное будет отправляться в подсобное помещение. Затем всё это бросят в топку, удалят из каталога соответствующие названия, и эти книги исчезнут без следа, словно их и в природе не было.
Мое альтернативное предвидение судьбы вселенского книгохранилища куда более тревожно, чем то, которое предложил Хорхе Луис Борхес. Я вижу библиотеку не как место, где мирно сосуществуют книги, созданные в прошлом, настоящем и будущем, но как место, где многое из того, что было задумано, написано и опубликовано, уже перестало существовать не только в хранилище, но и в памяти библиотекарей.
Опасение подобного рода и было второй побудительной причиной моего поспешного звонка в издательство, и в этом, как я уже сказала, признаваться не очень приятно. Получается, что Британская библиотека, равно как и Библиотека Конгресса США, может уберечь нас с вами от полного забвения ничуть не лучше, чем наша прижизненная репутация. Об этом я напоминаю себе постоянно, об этом в сей торжественный для меня вечер я хочу напомнить и всем вам.