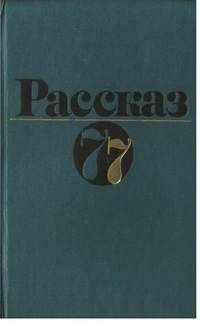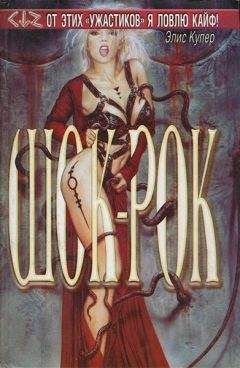Стал он в последнее время сварлив, как баба, и мнителен до подозрительности, никого никогда не впуская в святая святых своей души, в свое будущее, которое заполнило однокомнатную его квартирку, превратив ее в филиал спортивно-рыболовного магазина. Тут было, кажется, все! Лыжи с креплениями, в которых торчали новенькие ботинки, ни разу, как и лыжи, не тронутые снегом; гантели и эспандер, поднятые, может быть, десяток раз на высоту седеющей, сивоватой головы хозяина; удочки, спиннинги, брезентовые тюки с лодками, сваленные в углу за шкафом, ярко-оранжевый тюк польской «Гдыни»; был даже маленький двухспльнын подвесной моторчик «Ветерок», который ждал своей волны, как ждали ее преющие резиновые лодки; были ласты и подводное ружье, спасательный, оранжевого цвета, жилет и настоящая зюйдвестка, купленная в ГДР; был ящик для зимней рыбалки, был складной стол и стулья для автотуристов, было множество всяких мелких предметов, вплоть до приспособления для вытаскивания крючка из щучьей пасти; на стене висел складной подсачек и складной багор; был даже гамак — и все это ожидало будущего, рождая в мечтательном взоре хозяина картину красивой и вольной жизни, телесного и душевного комфорта, когда наступит наконец-то время для этого.
Краснов даже приятеля своего, Сергея Светловидова, прилетевшего из Хабаровска и разыскавшего его с помощью справочного бюро, не пригласил к себе в гости, а поехал к нему сам. Он не хотел показывать свое богатство людям. Не потому, что люди могли бы отнять это богатство, а потому лишь, что кто-то из них мог ненароком посмеяться над ним, особенно тот, кто достаточно хорошо знал истинную жизнь Бориса Ивановича Краскова. Насмешка была бы слишком тяжелым испытанием для его души, которая и так уже была вся исцарапана подсознательным ощущением своей беды, своего несчастья.
Теперь же, забыв обо всем на свете, он зачарованно смотрел, как курит в постели это свалившееся с небес на его голову юное существо, и готов был поклясться кому угодно, что еще никогда не испытывал в жизни такого блаженства и наслаждения от одного лишь созерцания своей то ли любовницы, то ли жены, которая вдруг с беззаботной улыбкой спросила у него:
— Ты уже сделал гимнастику?
— Да, — ответил он в смущении. — То есть я... сбегал за водой на колодец... А тропинка туда сквозь кусты, а кусты мокрые и холодные от росы. Гимнастика и холодный душ...
— Ты меня не обманул? —спросила она опять.
— Нет...
— я не в этом смысле, я вообще... Все, что ты говорил мне, это правда?
Сейчас он не помнил, что он ей говорил, но он поймал ее руку своими руками, сжал в ладонях ее голубоватые пальцы с ярко-оранжевым, сочным маникюром и как только мог серьезно ответил:
— Все это правда, да... Я хочу, чтоб ты стала моей женой... Если ты не передумала, если ты тоже не обманула меня, я буду самым счастливым человеком на земле.
— Правда?! —спросила она так, будто все еще не верила ему. — Ты не передумаешь потом? Ты будешь всегда любить меня?
— Всегда...
— Если ты будешь любить меня, то и я тоже обязательно буду очень, очень любить тебя. Но ты мне скажи правду — у тебя действительно нет сейчас жены или ты придумал вчера это?
— Нет, я ничего не придумывал, — отвечал он ей, все больше и больше удивляясь этому странному и наивному, глупому разговору, который они без тени усмешки и иронии вели между собой.
«Может быть, так и нужно? —спрашивал он себя в изумлении. — «Если ты будешь меня любить, то и я тоже обязательно...» Черт побери! Может быть, это и есть та истина, от которой бегут все люди, рассчитывая только на любовь к себе и не желая тратить сил и напряжения, чтобы любить самому? Отсюда и все недоразумения. В этом какая-то детская непосредственность, святой наив и доверчивость... «Если ты будешь меня любить, то и я тоже...» Ах ты, господи! Как хорошо это сказано, как просто».
— А теперь, — сказала она с жеманством. — Ты уходи отсюда, я буду делать гимнастику и одеваться... Кстати, ты помнишь, мой чемодан остался в камере хранения, ты привезешь его? У меня там всякие... тряпки...
И Красков, совершенно ошеломленный всем услышанным, закрыв глаза, поцеловал ее руку и почувствовал такую слабость в теле, что его опять шатнуло, когда он поднялся и пошел к двери. Он оглянулся, когда она уже, спрыгнула с кровати на пол и изогнулась дугой, закинув руки и голову в каком-то молитвенном восторге.
— Слушай! — воскликнул он. — Ты мне скажи, почему именно я? За что это мне? Я ничего не понимаю! А чего-то очень боюсь! Ты понимаешь? Мне страшно.
А она расслабилась вдруг, уронила руки на грудь и полушепотом с полукнвком согласия ответила:
— Мне тоже... Ну, а что же делать?
— Я люблю тебя, — сказал Краснов, схватившись за дверную ручку.
— Я тоже...
Днем она проводила его до станции, просила не задерживаться и как можно скорее приезжать обратно. А он, очутившись в вагоне, среди людей, стал наконец-то осознанно представлять себе все то, что произошло с ним, все, что она сказала ему по пути на станцию. «Возвращайся, — просила она, — а то я совсем не знаю, о чем мне говорить с твоей мамой. Она меня, по-моему, невзлюбила».
«Да, да, конечно, — думал он в смятении, не в силах избавиться от глупой улыбки, которая здесь, среди людей, смущала его. — Я, конечно, не задержусь. Но что происходит? Такое чувство, будто тебя разыгрывают, а ты поддаешься как дурачок...»
И он снова мысленно шел рядом с пей вдоль затоптанной, измятой опушки леса, уже лиловеющей фригийскими васильками.
— Да, был муж... Я вышла замуж, когда мне было восемнадцать, и ему столько же. Он учился в институте... сейчас еще учится, —говорила она так, будто речь шла не о ней самой, а о женщине хорошо ей знакомой и достойной искреннего сочувствия. — Ты ведь знаешь современных мальчиков! Еще не научились зарабатывать, зато тратить чужие деньги... просто гении! Я работала в детском саду воспитательницей, я и сейчас там, а он учился в институте, и там очень большая стипендия, я зарабатывала столько же, сколько платили ему за то, что он учится... Странно, правда? Может, поэтому он совсем не ценил меня? Сейчас это смешно вспомнить, но ты не поверишь, я страдала на полном серьезе, разыскивая себе американские джинсы, настоящие «супер-райф», потому что ему так хотелось... Я их, конечно, не нашла, у меня таких знакомств нет, и вообще я в этом смысле непрактичная... Было очень обидно. Мне не нужно ничего, кроме... Кроме знаешь чего? Кроме того, чтобы он был мужчиной. Я все время чувствовала, будто в семье не он, а одна только я сильная, а он — именно мальчик... В саду целый день развлекаешь детишек, танцуешь, поешь с ними, а придешь домой — то же самое, то же самое... Мы с ним прожили год и три месяца и разошлись, потому что я поняла вдруг, что все это — капризы, пьянство его и, я даже сканцу, разврат, не тот, о котором все знают, а тот, который никому не заметен, или, вернее, не разврат, а какое-то извращение, что-то неестественное... Я не знаю, как эго сказать. Иждивенчество во всем. Понимаешь? Когда я стала задумываться над этим, то кажется, ничего особенного! Ничего плохого не могла бы сказать. Просто у меня не было мужа. Был холодненький, жиденький мальчик, которого надо было кормить и ублажать. А я не могла. Понимаешь? Это какое-то извращение. Ненормальность. Я всегда хотела любить человека, который тоже любит меня и понимает, что я всего-навсего женщина. Ты, например, можешь подумать обо мне все что угодно. — Она остановилась и с надеждой посмотрела на Краскова. — Но я знаю, — продолжала она, —ты этого не подумаешь, потому что ты мужчина. Мне сейчас кажется, что я тебя знаю очень давно. Ты слышишь меня, Борис? Я когда увидела тебя, как ты подошел со своим товарищем, сел за столик, взглянул на меня, я тогда сразу подумала, что ты будешь моим мужем. Ты мне не веришь? Ну и не верь, пожалуйста, а я знала. Я поняла, что гы мне родной. Вернее, даже не поняла, а просто почувствовала себя так, будто назначила тебе свидание, а ты пришел. И как будто мы с тобой давно уже муж и жена. Ты, конечно, можешь не верить, но я вчера это знала, что так все будет. А иначе могла бы я разве сейчас вот так идти с тобой и все тебе рассказывать?! Ну сам подумай — могла бы? Нет, конечно! Господи, я сама удивляюсь своей смелости! То есть даже не смелости! Какая смелость, если совсем не страшно с тобой? Мне с тобой совсем не страшно! Понимаешь? Это невозможно объяснить. Тебе ведь тоже, да? Скажи, не страшно? Нет? Я знаю, что тебе тоже не страшно со мной. Я тебя совсем не знаю, но в то же время знаю, знаю так хорошо, так хорошо!
Тропинка светло и сухо ушла в сосновые посадки, в снегозащитную полосу. Перевитая змеями сосновых корней, она была вся усеяна черными муравьями, которые по какой-то безумной прихоти избрали ее тоже, как люди, своей дорогой. Для муравьев тропинка была, наверное, чем-то вроде бурного океана, — казалось, каждый из них обречен... Но сколько похмнил Краснов, на ней никогда не иссякали вереницы деловитых упрямцев.