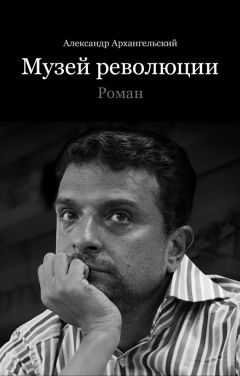Через некоторое время в Гамбурге, на выезде из аэропорта (чтобы можно было обернуться за день, утром прилететь, а вечером обратно), появилась мелкая контора. За промытым офисным стеклом сидели три пожухлых старичка. Листали документы, подшивали в папки, неумело, с тяжелым нажимом, как на старых пишущих машинках, тюкали в клавиатуру, подслеповато вглядываясь в толстые экраны. Аморфные движения, настороженные лица, мешковатые костюмы. Один из них был павлодарским адвокатом, другой всю жизнь служил юрисконсультом на Беговой и с нескрываемым презрением цедил клиентам: так, объясняю снова, вы не поняли, дедушка и бабушка разводятся, дедушка прописывает вас… А третий дослужился до судьи — несмотря на характерный нос и мягкие слоновьи уши в складках; Ройтман ему не очень доверял, но деваться было некуда, где он еще найдет реального судью в колбасной эмиграции, да еще за эти деньги?
Раза два в неделю Ройтман появлялся в офисе, опускал гремучие роль-ставни; в темноте между пластинами светились зубчатые узкие полоски, похожие на линию отрыва. Один из стариков вытаскивал из шкафа мантию, взмахивал, как простыней, и ловко бросал на гладильную доску. По офису распространялся теплый запах пыли. Двое других доставали приготовленные папки, а Ройтман выходил встречать гостей, рассаживал их по диванчикам, и предлагал начать процесс.
11Дело постепенно разрасталось; кооператоров сменили фабриканты, иски стали сложные, объемные. Старичков он спровадил на пенсию, выбил рабочие визы молодому ленинградскому судье из областного арбитража и тридцатилетним бойким адвокатам из Воронежа. И завел себе отдельный офис возле ратуши — для предварительных переговоров.
Однажды объявились вологодские владельцы шарикоподшипника: не смогли договориться о разделе пая. По закону (черный ройтмановский арбитраж не признавал понятий; полки распухали от ксерокопированных уточнений и поправок, дополнительных определений Верховного суда) прав был младший партнер. Он-то и вышел на Ройтмана. Приятный, тихий паренек, из технарей, очки с двойными стеклами, расплющенный голос; если б не расслабленность движений, по которой узнается человек, давно привыкший к деньгам, можно было бы принять его за неудачника-зануду.
Полуразвалившись в кожаном кресле, паренек не спеша закурил бриаровую трубочку, с маленькой матросской чашкой на прямом коротком чубуке, пфыкнул дорогим вишневым табаком:
— Веня меня зовут. А вас — Михаил. Говорят, вы служите местным царем Соломоном?
— Говорят.
— А почему вас слушаются? Почему не посылают?
Ройтман скучно рассказал, как ленинградские, московские, свердловские и томские дельцы договорились признавать решения его суда, а если кто не понял, с таким сообщество прощается. И человек выпадает в осадок. Сделки рассыпаются, на звонки никто не отвечает, бизнес медленно, но верно идет ко дну.
Пфык-пфык, по кабинету расползается густая синева.
— Угу. А как же, позвольте спросить, сообщество-то узнаёт? Ну, о том, что вы тут нарешали?
— Мы рассылаем бюллетень.
— Чевоооо?
— Бюллетень, говорю, рассылаем.
Ройтман вынул брошюрку, изданную типографским способом; в ней мелким шрифтом были напечатаны решения его подпольного суда — в последней, результирующей части.
— Но здесь же нет фамилий? Только звездочки и буквы?
— Люди это всё заметные, бизнесá их на виду, нетрудно вычислить.
— И много было случаев неподчинения?
— Бывало. В начале. Теперь не бывает.
Технарь захохотал:
— Что? эмалированный тазик с цементом — и на дно океана? Вы знаете, мне нравится. Давайте мы тоже попробуем.
Вроде бы они их как-то помирили, но вскоре Ройтман получил холодное письмо. Младший партнер сообщал: ваши обязательства не выполнены, никто решению суда не подчинился, обещанный бойкот не действует, надо срочно встретиться в Москве.
Ройтман явился в обшарпанный офис, на улице Большой Черкизовской: гремучий бронебойный лифт, обколотые, как после бомбежки, стены коридора. Восьмой этаж был отсечен от остального здания, с седьмого нужно подняться пешком, позвонить в приваренную дверь, похожую то ли на задраенный люк в подводной лодке, то ли на выход из бункера.
Но за этой замызганной дверью таилась обустроенная жизнь. Правильные теплые светильники, панели из мореного ореха, ворсистые бесшумные ковры… пахло то ли розочкой, то ли мимозой… сегодня это показалось бы дешевкой, но тогда, в начале девяностых…
У входа в кабинет руководителя стояла рамка металлоискателя, за отдельным столиком с зеленой лампой сидел охранник с автоматом. А в кабинете обнаружились насмешливые шарикоподшипники; сразу оба-два; и никаких следов конфликта, ни малейших признаков непонимания. Старший, так похожий на прожженного парторга из академического института, с неугомонным взглядом подлого отличника, изъяснялся быстро, скорострельно:
— Садись, садись, все, извинения, считай принесены, садись, сам понимаешь, куда сейчас без проверки. Убедились, держишь… И не трус.
— Ничего не понимаю. Объясните.
— Объясним, объясним, не волнуйся. Выпьешь? Нет? и это тоже правильно… садись, разговор будет долгий, ты чем обедаешь? Вень, позвони… куда? Да лучше всего из «Максима».
За роскошным обедом ему рассказали, что предстоят серьезные дела; их вот-вот допустят до трубы и они искали — и, судя по всему, в его лице нашли — надежного еврея, который будет держателем акций. Сам сможет ими управлять, а их — не кинет.
— Нас как бы нет, но мы есть. Запомни это хорошенько, как отче наш… или что там полагается у нас… ты не в курсе? Мы — есть. И пока мы есть, ты тоже будешь.
И началась у Ройтмана совсем другая жизнь. Которая теперь должна закончиться, и больше никаких нефтянок, никакого малибдена; ничего, что тянет вниз, привязывает к месту. Только то, чего нельзя схватить руками и пощупать. То, что останется с ним навсегда, в любой стране, куда судьба ни бросит. Тем более, что скоро — и надолго — бросит — всех.
12После разговора с губернатором на сердце стало весело и просто.
Виктор Викентьевич был высокомерно ласков, разговор повел издалека, дескать, что-то вы замкнулись, перестали заезжать. Шомер аккуратно возразил: на вас, Виктор Викентьевич, губерния, а наши мелочи — зачем вас нагружать?
— Ну, хорошо, что сами все решаете.
Желванцов вращал глазами, делал всяческие знаки: что же вы про тендер ничего не скажете; сиди, Виталий, молча, слушай старших.
— Мы стараемся, Виктор Викентьевич.
И губернатор, взвешивая фразы, как покупатель взвешивает дыньку на ладони, сообщил невероятное известие.
— Мы предварительно переговорили с Иваном Саркисовичем… ну ты знаешь, кто он? вот и хорошо… — Обкомовские интонации их губернатора были предсказуемы. — Стало быть, мы с ним переговорили, и вроде намечается юбилей Приютина? Воот. А обстановка сейчас, как ты знаешь, не очень. Понимаешь, куда я клоню?
Еще бы не понять.
— Нет, Виктор Викентьевич, не понимаю.
— В общем, выдвигаем на Госпремию. Кого-кого? Твое Приютино. Воот. Летом юбилей, отметим, может, Сам приедет. Нет, не этот, выше. Сам.
— Виктор Викентьевич, я даже не знаю, как благодарить.
— Ты благодарить потом будешь. Сейчас пиши записку с предложением, кого включаешь в список, поименно. Награждаемых должно быть трое — ну ты, понятно дело, и как следует подумай, кто еще.
— Может быть, главный хранитель?
Интонация вдруг стала давящей, назойливой.
— Как следует, сказал, подумай.
1До посадки оставалось меньше часа. В депутатском зале возле барной стойки гужевались томные девицы в розоватых длинных платьях с чересчур завышенными талиями, шерстяных костюмчиках крупитчатой фактурной вязки, коротеньких штанах с бантами. Это были не любовницы, не жены. Для любовниц слишком низкорослые, отечные, со слегка приспущенными попами; в отличие от жен — услужливо напряжены. Девушки слепились плотной кучкой, как металлическая стружка на магните, сверкающая острым, рвущим блеском. Чужой не подходи — убьет!
В другом углу, непроницаемо для вертихвосток, начальственным кружком стояли женщины в суровых пиджаках и строгих юбках чуть выше колена. Они напоминали женский батальон охраны. С этими, наоборот, все ясно; надежные начальницы отделов, служба протокола, референтки, — та верная опора высшего начальства, про которую оно не помнит.
Мужчины утопали в безразмерных черных креслах, неудобно вскидывая руки; пиджаки в плечах вздымались и напоминали бурки.
В зал вошел демонстративно опоздавший Юлик: взгляд скользит поверх голов, к уху прижат телефон; ожидая важного звонка, имеешь право никого не замечать. В зале было двое или трое человек с такими же скользящими глазами; не присаживаясь в кресла, они фланировали взад-вперед, беспрестанно говорили по мобильным и не допускали окружающих до своего сосредоточенного взгляда. Если их глаза встречались — там, над головами, в горней высоте, они, не прекращая разговора, брезгливо обнимались и троекратно чмокали друг друга в отложные щеки, нависающие на воротники.