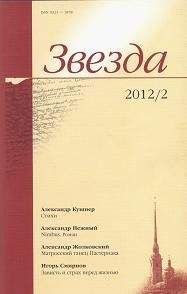— Господин Гааз! — вскричал Карл Иванович Розенкирх голосом человека, вдруг обнаружившего, что его обобрали ловкие московские жулики. — Вы в своем уме?!
Не дорисовав очередную туфельку, господин Пильгуй бросил перо.
— Ни в какие ворота! — возмущенно объявил он и щелкнул замком роскошного портфеля. — Мне пора.
— И мне, — подхватил Валентин Михайлович Золотников, с одной стороны, словно бы изъявляя готовность немедля подняться и уйти, а с другой — посматривая на митрополита и несомненно ожидая, что он по сему поводу скажет.
Едва шевеля губами, его высокопреосвященство прошелестел:
— Вы, Федор Петрович, будто один на белом свете.
Часы на стене залы отбили семь гулких ударов.
— Вот, — детским пальчиком указал Филарет. — Семь. А сидим с двух. Давайте до следующего раза.
— Nein, nein… нет, владыка! — умоляюще воскликнул Гааз. — Его в субботу могут отправить!
— Да пусть отправляют этих ваших несчастных куда подальше! — выплеснул наконец накопившиеся чувства господин Митусов, хотя, не будучи членом комитета, права голоса он не имел.
— Владыко святый, — вступил отец Василий, становясь напротив митрополита, кланяясь и касаясь десницей навощенной паркетины, — никуда клуб да лавка не денутся. Федор Петрович не стал бы попусту переживать.
— Ах, отец, — с досадой промолвил Филарет. — Ты каждой бочке затычка.
— Простите, — еще раз поклонился маленький священник, но, правду говоря, без всякого раскаяния в голосе.
Филарет снова надел убранные было в замшевый футляр очки и долгим грустным взором посмотрел на доктора Гааза.
— Федор Петрович, Федор Петрович, — обреченно проговорил он наподобие отца, обращающегося к отбившемуся от рук сыну. — Я, пока вас не узнал, и подумать не мог, что бывают такие упрямые немцы. Ну, что там стряслось? Господа, господа, — властно пристукнул он по столешнице маленькой своей ладонью. — Бог терпел и нам велел.
Алексея Григорьевича Померанцева, как и прочих, нынешнее заседание изрядно утомило. Да и рука устала. Не протокол — целая повесть. Шутка ли — двадцать пятый лист сверху донизу, шестьдесят три вопроса, да еще три листа приложений. Он вопросительно взглянул на Филарета: писать? Не писать? Митрополит кивнул, и Алексей Григорьевич натруженной рукой вновь взялся за перо. О, Боже. Вопрос шестьдесят четвертый. Сообщение господина директора доктора Гааза… Напрасно ожидают его друзья! Не судьба ему отправиться с ними в Александровский сад, выпить бокал ледяного шампанского, затем кликнуть лихача и… Ах, лучше не думать. Что толку тревожить воображение обольстительными картинами, когда оно взнуздано суровыми обязанностями службы? Тут, однако, его взгляд случайно встретился с взглядом доктора Гааза, и он даже вздрогнул, словно прямо в сердце ему перелилась тревога и боль из светлых, с едва заметным туманом глаз Федора Петровича. «О чем это я? — растерянно спросил он себя. — Все пустяки какие-то… И нехорошо». Теперь, хмуря брови, он думал, что надобно делать ему что-то со своей жизнью, иначе… Что иначе? Ну станет как все. И славно. И чины придут, и состояние, а невдалеке и жена, цветущая молодой прелестью, смышленые детки, заботы мужа и отца… Что в том дурного? Неужто одному как перст лучше? Неужто участь Федора Петровича завидней?
— Я очень даже уверен, — уставившись в стол, вздрагивающим голосом говорил меж тем доктор Гааз, — что мое дело каждый член комитета исполнит даже много лучше меня. Имею только одно перед другими преимущество. Какое? — Сам к себе отнесся он и пояснил: — Отсутствие иных занятий, которые могли бы отвлечь меня от любимого моего занятия, именно — заботы о больных и арестантах.
— И так знаем, Федор Петрович, — властным шепотом вторгся в его речь его высокопреосвященство. — Извольте излагать суть.
— Простая суть. Вот имеется копия резолюции из канцелярии государя на прошении Анны Андреевны Гавриловой. — Во всеобщее обозрение Гааз поднял над головой выхлопотанную сегодня бумагу. — Сын ее Сергей обвинен в убийстве, приговорен, находится в пересыльном замке, болен…
— У вас они все больны! — не стерпел господин Розенкирх.
Коротко поведя крупной головой, будто отгоняя назойливую муху, Гааз продолжил:
— …и ожидает этапа. Согласно резолюции, дело передано на рассмотрение в Правительствующий сенат.
— От нас-то, от нас что вы хотите? — с тяжким вздохом промолвил митрополит. — Дело в Сенате. Пусть ждет.
Федор Петрович просиял.
— Вот и я о том же! Пусть ждет себе в пересыльном замке.
Но тотчас вылит был на него ушат ледяной воды.
— Господин Гааз, — отложив начатое было изображение новой туфельки, вкрадчивым голосом произнес Павел Иванович Пильгуй, — в силу природной своей сентиментальности желает не только несбыточного, но и противозаконного. Не говорю о том, что пока у нашего Сената дойдут до означенного дела руки, иные из нас вполне могут переселиться в другой мир.
— Господь призовет, — тут Филарет осенил себя крестным знамением, — и мы все в полном составе нынче же предстанем перед Его Престолом. Об этом, Павел Иванович, как-нибудь в другой раз. Сделайте милость, разъясните требования закона, чтобы нам перед ним не согрешить.
И господин Пильгуй, согласно кивнув и не переставая приятно улыбаться, сообщил, что по поводу права арестантов на обжалование состоявшегося над ними приговора существует обширная переписка, возбужденная еще московским генерал-губернатором князем Дмитрием Владимировичем Голицыным, храбрейшим воином и мужем совета. Он сносился с министром юстиции не только прошлых лет, просвещеннейшим Дмитрием Васильевичем Дашковым, но и с Виктором Никитичем Паниным, еще и по сей день занимающим свой пост…
— Ах, Павел Иванович, — простер к нему Филарет обе руки, такие худенькие в широких рукавах подрясника, — как, однако, вы растекаетесь. Вы бы еще от Адама…
— Иначе нельзя, ваше высокопреосвященство, — склонив голову с приметной плешью, отвечал господин Пильгуй с еще более приятной улыбкой. — Надобно показать, сколь вдумчива опека власти над подданными. А то некоторым все кажется так просто…
При этих словах прекрасное тонкое лицо Филарета приобрело выражение безропотной покорности. Ах, словно бы говорило оно, делайте, что хотите! Желаете жить сами по себе — и на доброе здоровье. Он плотно сжал губы и передвинул одну за другой две бусины на четках.
Участвовали в обсуждении, продолжил Павел Иванович, и министерство внутренних дел, и Сенат, и Государственный совет. Последний и высказался со всей определенностью по духу и смыслу статьи сто шестнадцатой XV тома Свода законов. Что сие означает? А вот. Господин Пильгуй назидательно поднял палец, на котором небесным светом вспыхнул крупный бриллиант. Уголовный арестант может принести жалобу на приговор не прежде, как по достижению места работы или поселения, каковое ему предназначено. Возразят: имеем не жалобу уголовного арестанта, а прошение его матери. Что сие меняет? А ничего, с удовольствием произнес он. Прошение ли, жалоба — все едино. Ему в этап? Надлежит идти, не откладывая и не выдвигая предлогов для незаконного пребывания арестанта в пересыльном замке в виде постигшей его болезни. Принято будет решение в благоприятном для него смысле на пути следования, то не должно встретиться препятствий, чтобы из какого-либо губернского города ему отправиться обратно. Определит Сенат невиновность арестанта по прибытии его на определенное ему место, то милости просим назад, в родные, так сказать, пенаты. А вынесено будет суждение, что виновен и снисхождению не подлежит, тут, господа, можно лишь возблагодарить власть, пекущуюся о благоденствии народа и, будто заботливая мать, ограждающую его от злодеев, развратителей и нарушителей общепринятого порядка.
— Вот так, — улыбнулся Павел Иванович и довольно потер рукой об руку. — В строгости закона его справедливость. Legalitas — regnorum fundamentum[48], — отчеканил он, расправил узкие плечи, выпятил грудь и глядел теперь верным защитником закона, его бдительным стражем и недремлющим хранителем.
В зале между тем повисла тяжелая тишина. Едва было слышно, как Карл Иванович шептал что-то на ухо Валентину Михайловичу. Тот беззвучно смеялся, прикрывая ладошкой рот и седенькие усы. Господин Митусов удовлетворенно усмехался. «Ах ты… персик», — с неприязнью подумал о нем Алексей Григорьевич. Федор Петрович вздыхал сокрушенно и громко, словно выброшенная на берег рыба-кит. Филарет надел, снял и снова надел скуфейку и прошептал, как ведомый на казнь мученик:
— Полагаю, господа, теперь все и всем ясно?
Всем — о, всем было ясно! Даже доктор Поль и Дмитрий Александрович Ровинский развели руками, а отец Василий полнозвучно сказал: «На все Божья воля». Не ясно было лишь Федору Петровичу, вскричавшему с беспредельным отчаянием: