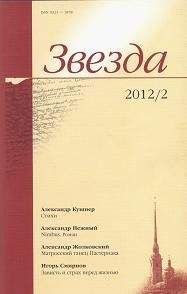У Федора Петровича не было цели описать жизнь Сократа с ее трогательными и поучительными подробностями, хотя, правду говоря, просилась на бумагу и Ксантиппа, сначала бранящая мужа, а затем в гневе выливающая на него ведро воды, на что ее супруг отзывается со спокойствием истинного философа: был гром, а потом и дождь; и некто, донимавший Сократа вопросом: жениться или нет, и получивший наконец сокрушительный ответ: делай, что хочешь, все равно раскаешься; а будучи на рынке, он говаривал, глядя на множество товаров: сколько же есть вещей, без которых можно жить. Двадцать одно столетие спустя Гааз кивал в знак согласия. И двадцать одно столетие спустя негодование жгло сердце, словно бы все случилось лишь вчера. О, суд неправый! Низкие люди, обвинители, этот Мелет, поэт ничтожный, с ним заодно разбухший от денег Анит и Ликон, оратор… Учит поклоняться чужим богам, развращает юношество. Двадцать одно столетие прошло, а приходится с горечью признать, что люди все те же. Можно было бы совсем отчаяться, если бы не Христос. Однако не об этом. Едва ли не главное место в рассуждениях Федора Петровича занимала чаша. Сократу по приговору суда надлежало выпить чашу с цикутой, что он и сделал, с величавым спокойствием удалившись в смерть. Были попутно кое-какие замечания чисто медицинского свойства: о приятном, отдающим свеже-натертой морковью запахе этого страшного растения с невинно-белыми соцветиями и нежно-зелеными стеблями, о ядовитой смоле его корня, о симптомах отравления — вплоть до закипающей на губах пены, корчах и параличе, предвещающем кончину. В Полицейской больнице Виктор Францевич готовил из цикуты, имеющей на русском иные названия, одно хуже другого, в том числе свиная вошь, отменную мазь, облегчающую иногда почти непереносимые страдания, вызываемые подагрой. Все это доктор Гааз поместил в примечаниях, дабы интересные для любознательного читателя, но вполне второстепенные сведения не отвлекали от основного — от чаши. С кровавым потом, продолжал Федор Петрович, Христос молился в Гефсиманском саду… Тут он словно бы претыкался в изложении своих мыслей и пытался несколькими сильными словами приобщить современного человека, почти забывшего о едином на потребу, к тому чувству, с каким потрясенный евангелист сообщает о падавшем на землю с лица Иисуса кровавом поте. Величайшая, смертельная скорбь, смятение души, еще не согласной принять предреченные страдания, мучительное борение надвигающегося ужаса креста и неотменяемого долга жертвы за всех и за вся, и вслед за тем совершенная покорность воле Отца — вот откуда оросивший каменистую землю кровавый пот. Христос принимает уготованную ему чашу. Бесповоротно отказавшись от предложенного друзьями побега, свою чашу осушает и Сократ. Его отношение к смерти нельзя назвать вполне христианским — но, право же, увлекшись, писал Федор Петрович, хотели бы мы среди нынешних христиан встретить столь глубокое понимание важности смерти и столь твердую надежду, что с переходом в вечность жизнь не кончается, а лишь принимает иные формы. Душа бессмертна, уверен Сократ. Умерших ждет некое будущее, которое неизмеримо лучше для добрых, чем для дурных. Откуда же в нас этот страх смерти? Ведь никто не знает, что она представляет собой. В конце концов, чего мы боимся — ее или связанных с ней страданий? Но отчего бы нам, вслед Сократу, не поразмыслить, что страдания предсмертной болезни — всего лишь небольшая плата за величайшее из благ, которое ждет нас за гробом.
2
…и не стыдно ли тебе заботиться о деньгах, чтобы их у тебя было как можно больше, о славе и о почестях, а о разуме, об истине и о душе своей не заботиться и не помышлять, чтобы она была как можно лучше?
Кому это было сказано? Человеку? Человечеству? С еще большей силой Федором Петровичем овладела печаль, от которой щемило сердце. Он перевернул последнюю страницу, отметив, что надо написать две-три заключительные фразы о философии, укрепляющей мужество, и о мужестве, порождающем надежду, после чего глотнул уже остывший чай, подобрал ложечкой остатки меда и, пересев из кресла на стул, прильнул к окуляру телескопа. О, какое небо черно-бархатное распахнулось! Какие звезды придвинулись и заблистали! Он уловил дрожащую улыбку на своих губах. Ах, ведь это созерцание и вправду было счастьем, пусть на краткое время, но все же возносящим его над бесконечной чередой забот о больных, арестантах, бездомных — к небесам. Дивная красота ночного темного неба, головокружительная бездна, куда с восторженным, почти ребяческим ужасом заглядывал он, домогаясь выпытать какую-то тайну, о которой даже страшно было подумать, яркие, почти белые, с отсветом пламени прямые прочерки от пролета бесчисленных метеоритов с дымными серыми хвостами, какие они оставляли после себя, чужие миры, которых он ощущал себя непрошеным соглядатаем, и одна бесконечная мысль, возникающая, должно быть, во всяком человеке при первом его осмысленном взгляде на небеса: там мое первое Отечество, оттуда я пришел и туда уйду из своей земной временной хижины, — все это вместе отзывалось в душе такой сладостной болью, что на глазах сами собой выступали слезы. Хотелось пасть ниц и воскликнуть: Du hullst dich in Licht wie in ein Kleid, du spannst den Himmel aus wie ein Zelt![54] Звездной пылью высыпали на востоке Плеяды; изогнулась Большая Медведица с Полярной звездой; ярко мерцала Вега; и низко, почти у горизонта блистал Юпитер… Вселенная представала перед Федором Петровичем во всей своей необозримой роскоши, в тяжелых рубинах звезд, в драгоценных ожерельях созвездий, в золотой россыпи Млечного Пути. Тихо пылали непроглядно черные небеса. Под этим торжественным пологом кто осмелится отрицать Творца? Разве краски могут сами собой создать картину? Звуки — мелодию? И слова — поэзию? Разве не Боттичелли написал Мадонну с таинственно опущенными глазами, склоненной головой и Младенцем на руках? Разве не Моцарт создал чарующие квартеты и полный мрачно-торжественной силы Реквием? И разве не перу Гете принадлежит одно из величайших творений человеческого духа — «Фауст»? Творец, Творец, осанна Творцу! И ты, человек, любимое некогда создание Божие, прах одушевленный, сын, медлящий с возвращением, — неужто тебе ни о чем не говорит ночное небо? И душа не полнится восторгом, и сердце молчит? Если бы люди с достойным прилежанием внимали бы небесам, изо дня в день и из ночи в ночь говорящим о вечности, то и жизнь здесь, на земле, была бы совсем другой. Не было бы ожесточения, ненависти, унижения, неправедных судов, невинных страдальцев… Несчастный юноша. Зачем ты это сделал? Отчего бы тебе прежде не поднять головы и не смирить себя картиной, которую даровал тебе предвечный Бог? Но так ярко и радостно сиял сейчас Юпитер, в таком волшебном хороводе кружились звезды, такими легкими тенями проплывали по иссиня-черному небу редкие облачка и такой величественный хорал лился с небес, что невозможно было не поразмыслить о красоте всего сущего как о несомненном признаке Божественного милосердия. Красота творения — это вечный призыв к совершенству, с которым Творец обращается к человеку. Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. И будьте милосердны, как Он.
Федор Петрович еще раз прильнул к телескопу и подумал, что взгляд в небеса подобен взгляду в собственную душу.
3
Остаток ночи он ворочался в постели, задремал лишь под утро и проснулся от щебета птиц и косых лучей солнца, пробивавшихся сквозь сиреневую занавесь и нежным светом освещавших маленькую спаленку. Умывался, молился за живых и умерших и о упокоении вместо воли обретшего вечный покой Сергея, завтракал жиденькой кашкой, пил чай, на сей раз на смородинном листе, принимал больных, почти всякий раз совершая путешествия к заветной шкатулке, обходил палаты. Доктор Собакинский сегодня отдыхал, и Федору Петровичу сопутствовал другой доктор Полицейской больницы, годами старше Собакинского, серьезный, с оттенком даже какой-то мрачности Христофор Федорович Паль, человек, впрочем, добрейший. От природы он был молчун, Гааз сегодня тоже не склонен был к разговорам и вопреки обыкновению не спрашивал у больных, хорошо ли они спали и видели ли приятные сны. Пошедшему на поправку Лукьянову коротко сказал, что скоро домой, а менявшей на соседней постели белье Елизавете Васильевне молча улыбнулся. С окончанием обхода начались шепотки и пересуды о возможных причинах невеселого расположения духа Федора Петровича. «Вернулся вчера ни жив ни мертв, — за чаем сказала Настасья Лукинична. — Под дождем вымок, — перечисляла она, крепкими зубами откусывая маленький кусочек сахара. — Коляска поломалась, Егор вчера до ночи с ней возился. Бегал весь день не евши. Не отошел еще». Отвлекшийся по такому поводу от своих весов, склянок и порошочков Виктор Францевич желчно обронил, что наше начальство загонит в гроб кого угодно. Одним Федором Петровичем в России больше, одним меньше — им что за дело! У них чуть в боку кольнуло — они ведь не к нам в больницу, а в Европу! К светилам! На воды! Дешев нынче в России Федор Петрович. «Нет, нет, — промолвила Елизавета Васильевна, — он за кого-то очень переживает. Это так видно. Неужто вы не заметили?»