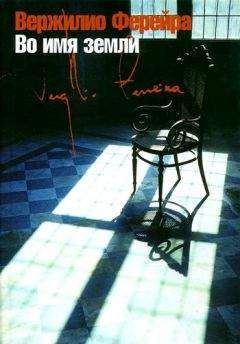— Входи. Дом твой.
И малышня прекратит беготню и спросит: а кто это? А я посмотрю и не скажу ни слова. Повернусь и спущусь вниз — в доме никогда не было лифта. И вновь окажусь на свежем воздухе и на безымянной улице — обо всем этом я думаю, пока спускаюсь к площади Эстефании, — как все необычно. И особенно необычно возвращение, как это тебе объяснить, возвращение себе себя самого, кем-то украденного. Мы, Моника, даже, не подозревая, являемся хозяевами стольких вещей: улиц, магазинов. Добрый день, гараж — он находился впереди, по ту сторону улицы, и как-то странно было видеть его на месте… привет, почтовый ящик! Хозяева окружающего мира! Потому что мы сами себе хозяева. Добрый день, старьевщик, добрый день всему вымышленному в этой реальности. И согретый всем, что меня окружает, возможно, я все же увижу фасад нашего дома. Он свеж и широк, как эспланада, как спокойное разочарование, именно так. Но даже если я и приду на площадь Эстефании, моей единственной ноге будет не просто, как и голове. Потому что мою голову, дорогая, теперь тоже надо принимать в расчет, потом объясню. Вот учитывая все это, я и задерживаюсь у Нептуна и озера, добрый день, Нептун. Один прохожий меня спрашивает:
— Скажите, а где Кампо-де-Сантана?
И я, довольный представившейся возможностью быть полезным, объяснил все и даже указал правым костылем, куда идти. Потом осмотрелся — мир полон невероятных вещей. Это очевидные вещи, хотя и невероятные, они просто мало используются. Трамваи, которые ходят вокруг озера, уличные торговцы, недоверчивый люд, спешащий к смерти. И мне захотелось тоже пойти к Кампо-де-Сантана, это далеко. Войти в кафе, у меня болят руки и ноги, присесть. Насладиться надежностью собственного бытия — но я не вхожу.
Здесь, на свежем воздухе, тоже жизнь и она у меня перед глазами, я не вхожу. Иду в сторону Ветеринарной школы и начинаю замечать, что мое тело противится. Я говорю ему: иди, иди, ты не раскаешься. Отдыхает, смотрит, идет. Но я вынужден тащить его на себе до сада и, сев на скамеечку, ставлю в стороне сложенные костыли. Время бежит, скоро вечер. И тут я замечаю, что и деревья, и люди выглядят неестественно. Не говоря уже о детях, совсем уж ненастоящих, они же выдуманы мной. Они бегали и кричали, и я улыбался им вслед. Один ребенок подбежал ко мне, и его искренний взгляд спросил меня: кто ты? И я с улыбкой ответил, кто я. А он мне опять улыбкой предложил играть с ним. И я улыбкой ответил ему, что не могу. Он со страхом дотронулся до костыля, желая понять, что это за игрушка, потом бросился прочь, унося с собой частицу меня. Я почувствовал себя ограбленным и взял костыли, принадлежавшие мне и стоявшие у скамейки. Спускался вечер, становилось свежо. Улицу запрудили такси, автобусы и прочий транспорт, люди по чьему-то призыву, которого я не слышал, стали покидать парки, быстро и незаметно. И вдруг, Моника, я испугался. Чего? Понимаешь, вечер принес с собой ощущение слабости, которое может нас сломать. Ночь приближалась и оставляла меня наедине с собой, тревожила — что-то в этом роде. И я почувствовал отчужденность мира, и то, что я для него не имел никакого значения. Это было самым страшным, Моника, мы ведь об этом не задумываемся. Быть значимым для других, для вещей. Ну скажи я сейчас: привет, сад, привет, машины, они бы меня не поняли и не увидели. Привет, фонарь! Никто меня не слышит. И было именно так. Я утратил себя, свою значимость, как изъятая из обращения купюра. И тут мне отчаянно захотелось иметь свое место в мире. Но его у меня не было, потому что в этом мире я отсутствовал. И я счел себя презренным, верь мне, и отвернулся от себя, как от прокаженного. И подумал: чего же еще можно ждать? Сколь смешны, Моника, исторические герои. Они — дерьмо, ничего в них нет героического — не сложно быть героем, если не теряешь уверенность и твой враг тебя признает. То же и с одиночкой, оказавшимся на необитаемом острове, его может узнать остров и отсутствующий мир, которому он принадлежит. Потому что, если он вернется, мир и он тут же признают друг друга. Как и приговоренного к смерти, которого все оплевывают. Существовать и быть признанным, дорогая. Мы даже не представляем того количества невидимых нитей, которые связывают нас с жизнью. Тут я встал и поспешил к приюту. Бежал как мог на своих костылях. На перекрестке я пришел в замешательство, машины стали мне сигналить, чтобы я поторопился, а то раздавили бы, как собаку. И пришел в себя, только когда весь потный оказался у дверей приюта. И забеспокоился, что не работает лифт — как же я тогда поднимусь со своими костылями по лестнице? Но в приюте почувствовал себя уютно, привет, страшные стены! Дона Фелисидаде, должно быть, уже ждет моего возвращения, в ее холодных глазах поборницы порядка живой укор. Но лифт работает, и я вошел в него вместе с очень высоким субъектом, который мне не был знаком. Он нажал на кнопку, двери закрылись. И мы стали медленно подниматься, испытывая неудобство от молчаливого присутствия в столь замкнутом пространстве. Внезапно посередине пути лифт остановился. Молчание было тяжким. И вдруг тишину прорезал металлический стук часов стоящего рядом человека. Какой удивительный механизм, — подумал я. Удары были сильными и металлически звонкими, я вслушивался. Наконец, лифт опять пошел вверх, и я не сдержался.
— Как громко тикают ваши часы, что это за марка?
И человек рассмеялся — какой же звучал хохот! Лифт остановился, человек вышел, но продолжал громоподобно смеяться. Он попытался было открыть рот, но не смог от разбирающего его хохота. Теперь его раскатистый хохот огласил весь дом, он шел по коридору к отделению «А» и все время смеялся. Я смотрел на него и, оглушенный его смехом, отступил в глубь кабины. И тут передо мной возникла — «В доме существует распорядок, сеньор…» — прямая, как догма, дона Фелисидаде, я смотрел на нее с ужасом и полнейшим спокойствием и блаженством, охватившим все мое существо. Тут появилась моя взбешенная мать: «Хотела бы знать, где этот мальчишка шагается до такого позднего часа?»
— В доме существует распорядок, я считала, что вам он известен, — сказала дона Фелисидаде.
И я узнал его в комфорте и гармонии всего окружающего. Дона Фелисидаде молчала, высокая, властная. Я же, маленький, сгорбленный, согнувшийся крючком, был счастлив. Мы стояли у моей комнаты, она, должно быть, ждала меня здесь с сотворения мира. И тут снова в коридоре появился крепкий мужчина, продолжавший громко смеяться:
— Он тоже спросил меня о марке часов!
Дона Фелисидаде посмотрела на него, он исчез в конце коридора и смех постепенно стих.
— Я уже звонила куда только можно, — сказала она своим четким холодным голосом.
Дорогая, представляешь, и это потому, что я опоздал и не вернулся к определенному часу. Звонила в полицию, в больницы, но я, как видно, повел себя совершенно непредсказуемо.
— Больше так не делайте.
Не буду. И буду следить за временем, а не думать, что нахожусь в раю. Больше не буду. Но рая-то не существует, существует земля людей, безмятежность ее страха и медленный покой ее гения.
— И больше не спрашивайте сеньора Валенте, какая у него марка часов. Он, как видите, оскорблен.
— Но ведь тикали его часы очень громко.
И она сказала — это не часы. И я вопросительно посмотрел на нее снизу вверх. И она ответила — это металлический клапан сердца. — Сказала она это или мне показалось? Заинтригованный, я задумался, а она, воспользовавшись моим замешательством, повернулась и ушла. Я смотрел с нежностью, как она удаляется от моей комнаты, пока, наконец, она не исчезла в глубине коридора. Но я же хотел рассказать тебе о Пенедо, который теперь живет в моей бывшей комнате. Расскажу потом. Я устал от воспоминаний, расскажу потом. Полежу-ка до обеда на кровати. Может снова услышу твое имя в концерте Моцарта для гобоя. Мне нравилась небесная музыка с гуслями и лютнями. У меня ее нет. Буду спокойно слушать любимую музыку, в которой слышится твое имя. Это концерт для гобоя и оркестра К.314 (285), концерт для Моники, как мило. Вначале вступает гобой: робко, застенчиво, как будто на цыпочках, вступает в большой оркестровый поток. Потом оркестр приглядывается к нему — откуда этот малыш? и он делает несколько пируэтов. Я же должен тебе рассказать о Пенедо, о Фирмино, о той, у которой груди, как тарелки на полке для тарелок, но разреши мне послушать. Гобой должен делать шлеп-шлеп, и люди, и оркестр в испуге смотрят на него. Дорогая. Насколько ты была сильнее, когда казалась слабой. Сила эфемерного. Легкой грациозности. Тот, кто уходит от борьбы сокращает свою жизнь. Сила ребенка заключена в бесконечных возможностях его самостоятельности — и тут оркестр дает возможность гобою блеснуть, и тот вдохновляется. Потом снова вступает оркестр. Как я тебя люблю. Вступает, бросает вызов, заглушает гобой, подавляет, потом, очарованный, отступает и слушает опять. И вольный, на широком пространстве свободы, малыш-озорник шалит. Оркестр отступает, а одинокий гобой долго шалит, танцует. Вижу тебя, вижу. В Соборе, в гимнастическом зале, и кричу тебе, кричу: Моника, Моника. Подул ветер, я иду с ним к тебе на орбиту, Моника. Как же я люблю тебя. Но оркестр возвращается, думаю это второе развитие темы. Гармония захватывает всех. Гобой повзрослел, встраивается в ансамбль. Но он такой печальный. Время от времени слышу его, голос у него окреп, это уже не петушок. Но иногда он забавляется и снова начинает резвиться и шалить, и скакать как мальчишка. Я вижу его, он удирает от оркестра, а оркестр ловит его, а он опять удирает, идет игра охотника с дичью. И вот оркестр кладет конец дьявольщине, гобой поглощен оркестром, встроился в него и исчез. Должно быть, скорбит, но я его не слышу. Гобой — инструмент печальный, наверное сирота, без отца и матери. Называю его твоим именем. Моника. Вечер спускается над моими воспоминаниями, ночь спускается над миром. Твое имя. Буду повторять его до… Усталая улыбка. Твое неожиданное сияние. Убаюкивает.