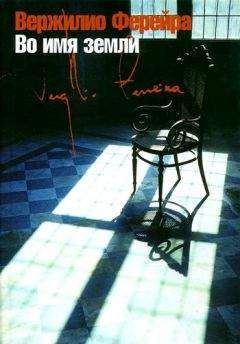— Кто такой Педро?
— Педро, так ты не знаешь, кто такой Педро?
— Не знаю. Твой новый муж?
— Педро. Мой муж. Не говори «твой новый муж». Звучит, как новое платье. К тому же очень рискованно выйти отсюда. Потеряешь место, и куда тогда я тебя дену? Да и дона Фелисидаде говорит, что ты очень постарел. Мне неприятно это тебе говорить, но ведь надо смотреть правде в глаза. Она говорит, что у тебя бывают провалы в памяти, много провалов. Иногда ты не попадаешь ложкой в рот. И еще кое-что…
— Да. Ты права. Тогда вот что, принеси-ка мне те две книги — те две книги, что в красном переплете, которые стоят в первом ряду на застекленной этажерке, если считать сверху.
— Я принесу, если дети их куда-нибудь не засунули.
— И синюю вазочку, что стоит на конторке.
— Дай я все запишу. Говори, продолжай.
— Больше мне ничего не надо.
— И все-таки подумай, что еще, чтобы не носить каждый раз. К тому же вполне возможно, что в ближайший месяц я прийти не смогу и пошлю деньги по почте.
— A-а, подожди. Посмотри в чулане, может, там ты найдешь ваши детские фотографии, ту, где вы трое, когда были маленькими. На одной из них ты стоишь между Тео и Андре. Или фотографию каждого из вас. Но я бы хотел больше ту, на которой вы втроем. Посмотри хорошенько, она должна быть там.
— А тебе не кажется, что это глупо? Просить фото детей, когда они давно стали взрослыми? И где я теперь найду эту фотографию?
И тогда я познакомился с Пенедо. У него были расчесанные усы, росшие прямо из-под носа. Он был худ, аскетически сложен. И весь электрифицирован — опутан проводами сверху донизу. «Весь в политике», — сказала дона Фелисидаде. Дочь просила не говорить с ним о политике. И тогда я решил провести эксперимент. Но прежде я хотел бы тебе объяснить то, что не объяснил ранее. Ну о том, что сказала дона Фелисидаде Марсии:
— И еще кое-что…
Я не объяснил тебе, и это мне сделать непросто. Кое-что. Она рассказала Марсии о низости моего тела, однако я не должен быть по отношению к своему телу, моему брату, неблагодарным. И приберегу лучшее, точнее худшее на потом. Трудно об этом говорить. Так я тебе рассказывал, дорогая, и отвлекся на другие темы. А мы говорили о Пенедо, и то, что я хотел сказать потом, выскочило раньше, — как же запихнуть это обратно? Моника, дорогая, ты уже, должно быть, обратила внимание, что вспоминается чаще то, что стараешься забыть. Ведь хочешь забыть то, что помнится, а то, что не помнится, то забывается, хоть и не хочет забываться. И все это я говорю только для того, чтобы сказать простую вещь. Как-то ночью, хочу сказать утром, я еще находился в старой комнате. Так вот, пока я постепенно просыпался, я ощущал, что все мое тело мокрое и в чем-то холодном. Мягком, мокром и холодном. Вокруг живота, скорее ниже, чем выше, должно быть, во сне я сильно ворочался и весь перепачкался в остывшей магме. Я стал пытаться сообразить, что же со мной произошло, и тут меня озарило, как вспышка молнии. И я почувствовал себя таким униженным. В подобных мгновениях — смысл жизни, моя дорогая. Мы живем, накапливая имущество, знания, славу и тому подобное. А время от времени случаются подобные мгновения, которые озаряют все это и придают всему смысл, который мы даже не понимаем. Я почувствовал себя таким униженным, Моника. Более униженным, чем тогда, когда мне ампутировали ногу. Потому что в ампутации при том, что тело в целом здорово, было что-то величественное, а тут была полная деградация, которая вызывала разве что сострадание. Я был в зловонной грязи, но не хочу, чтобы ты меня пожалела и положила мне на голову сочувствующую руку. К тому же этому случаю есть законное объяснение, моя дорогая, а закон всегда защищает. Тело — это структура законов, которые регулируют естественность его существования и делают его понятным даже в его таинстве. И иногда есть еще один закон против какого-нибудь одного из всех, и он все оправдывает, не волнуйся уж очень. Когда я был маленьким, рассказывала мать, естественно, я этого не помню, но мать рассказывала несколько раз, чтобы объяснить, что никогда ночью я не доставлял ей хлопот, и это то, что мать вспоминала с большой радостью. Так вот, она говорила, что подходила к колыбели и видела меня спокойно спящим, а когда меняла пеленки, то шел такой запах, ну чистый щелок: «Прямо с ног сшибало. Но ты никогда не плакал… никогда не плакал. — Она меня чистила, мыла, меняла пеленки, чтобы был прибранный и симпатичный. — Но ты спал всю ночь спокойно, хоть и весь мокрый».
Но теперь я не был спокоен. Мне было стыдно, да еще так плохо пахло. Я позвонил в колокольчик, пришла дежурная. Подняла одеяло, ужас, ужас.
— Еще один ребеночек… не может сдержаться.
Ужас. Я попытался объяснить, чтобы облегчить тяжесть вины.
— Я не знал, что делать: идти самому в ванную или попросить проводить меня туда?
Как отыскать тот закон, который оправдал бы меня, такого робкого в унижении. Но дежурная меня не слушала и произносила такие слова, попирающие мое самолюбие: «Я здесь для того, чтобы чистить старикашек». И тут вошла моя мать, вошла через внутреннюю дверь, чтобы объяснить ей, как правильно подложить мне пеленку, как заколоть булавкой, чтобы она меня не уколола «У него же такая нежная кожа, булавка должна быть на спине, чтобы он не мог раскрыть ее, хорошенько расправить пеленку, чтобы не натирала, под простыню подложить клеенку». Дежурная обтерла меня — потом, как положено, вымыла, подложила не клеенку, а пластик.
— Может, уснешь еще, — сказала мать.
Дорогая. В любом случае я хочу объяснить тебе, что я не во всем виноват. Нет. Ведь как ты знаешь, конечно, у нас есть, скажем, эластичное кольцо, мышца, которая закрывает мешок со всеми мерзостями и держит их внутри нас, так вот это кольцо утрачивает с возрастом свою эластичность и не закрывает как следует мешок. А тут меня еще прослабило. Дорогая.
— Может, уснешь еще, — сказала мать.
Вот так. Больше объяснять не буду, ты там, в могиле, должна все знать. И, может, я еще усну. Мне уютно и чисто в свежевыстиранных пеленках. Может, усну.
— И еще кое-что, — сказала мне Марсия.
Что такое это «кое-что», я уже тебе рассказал. Это было ужасно. Я упал в глазах доны Фелисидаде, а она возвысилась.
— Но, может, уснешь, — повторила мать.
Вижу ее сострадательный взгляд. Закрываю глаза. Может, еще усну.
Да, в новой комнате мне гораздо лучше. Не знаю, Моника, насколько она дороже, но думаю, не намного, Марсия стоит на страже интересов семьи. И ты же видишь, как бы ни урезалась моя пенсия, у нее ничего не прибавляется. Эта комната лучше. Больше места для меня и меньше для остальных. В старой комнате дверь была символической, все равно что столбы или цепи, преграждающие вход в усадьбу, я ведь слышал все, что происходило за перегородкой из рифленого стекла, где велся прием больных. А в промежутках слышалась болтовня обслуживающего персонала. Здесь же закрываю дверь и остаюсь один на один с собой. И окошко ближе к кровати. По утрам под ним нет никакого базара, а вечером — оглушающего уличного шума. И ночью, когда безумие дня стихало, там мне все время не давал уснуть один сумасшедший. Здесь нет. Здесь город далеко, шум улицы воссоздает разве что мое воображение. Окно выходит во внутренний двор… да, но я же собирался говорить с тобой о Пенедо, который поселился в моей прежней комнате, я уже сказал тебе об этом. И о Жозе де Барросе. Любопытно, я вроде бы утратил желание о нем говорить и даже забыл те мысли, что в связи с ним хотел тебе высказать. К тому же, вначале я должен сказать тебе о доне Фелисидаде, чтобы я сам осознал, что она для меня значит. Но… внутренний двор. Во дворе утрамбованная земля и две скамейки для стариковских раздумий. Почти всегда на одной из них — аллегорическая фигура старика со склоненной на грудь головой. Вот и сейчас на одной скамье сидят двое, каждый на своем месте, сохраняя максимальную дистанцию между собой. Сидят молча, общаются с судьбой на шифрованном языке. Смотрю на них, и душа моя наполняется нежностью к самому себе. А еще во двор прилетают голуби. Прилетают из неведомых краев и высокомерно воркуют, такая амбициозность в зобе и прочих частях маленького птичьего тела. Дона Фелисидаде не любит, чтобы им бросали еду. Но она не понимает, что самое большое удовольствие нуждающийся получает, помогая тому, кто нуждается больше него. К дверям приюта я не спускаюсь, и не только из-за машин, которые то и дело подъезжают, хотя я хожу лучше, иногда и лифт работает, и надо только поставить в известность дону Фелисидаде, но в основном из-за головы, Моника, неповоротливости и головокружений, потом объясню. Там сидят люди, ждущие остатков еды с нашего стола. Это наша постоянная клиентура, она включена в бюджет приюта для получения милостыни, а голуби нет. Я все время смотрю на них, дорогая. Они прилетают из воображаемых краев и могут принести послания, и я с надеждой расшифровать их смотрю на них внимательно. Прилетают из неведомого, приносят сообщения о смысле вещей, об истинности того, что существует, о синеве и ее существовании над нами и возможности достать до нее рукой, о существовании полета, о возможности приятного времяпрепровождения в безграничном пространстве и о свободе, которая мне неизвестна, о переполненности глыбы и наличии света даже в крыле летучей мыши, и о дали, в которую нет желания идти, обо всем безумно красивом и не вызывающем слезы — да, прилетают из бесконечности, дорогая, приносят послание, которое я пытаюсь расшифровать своими земными глазами, а ведь я хотел поговорить с тобой о доне Фелисидаде.