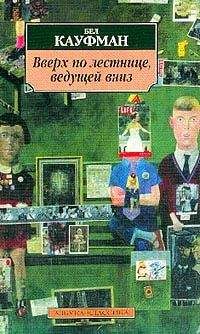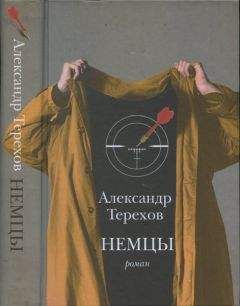Императора не интересовала 175-я школа, как и прочие личные моменты, не имеющие отношения к Будущему (даже к Вечности), но он ее ненавидел. Власть и деньги в империи не передавались по наследству, детям вождей приготовили общий паек и ничтожество. Подростки страшных фамилий должны носить залатанные брюки и заштопанные чулки и сидеть за партами с бывшими беспризорниками и детьми погибших революционеров, выросших в детдомах, – ОБЩИЕ ОСНОВАНИЯ. Но общие основания не выдержали, во-вторых, родительской любви, а во-первых, страха рядовых людей, нянюшек и гувернеров – им хотелось дышать и обеспечивать продуктами семьи, умереть от старости, положив лапы на макушки правнуков; им не хотелось оказаться в том смертоубийственном месте, где практика украдкой вдруг глушила теорию и бросалась прочь, хрустя мелким человеческим мусором, трагически проявившим принципиальность. Детей железных людей растили как золотых, они слились в 175-ю школу, на которую со страхом взирали все, и подруга второй жены императора Мария Анисимовна Сванидзе записала в отчаянии: «Обстановка создана идеальная… Ужас в том, что дети чувствуют привилегированность своего положения, и это губит их навеки… Они обречены на ничтожество из-за исключительности своего положения». Это одна из немногих второстепенных мыслей, приходивших на ум Марии Анисимовне; чаще всего (сколько бы ни исчезало родственников и друзей) она неподвижно думала о своей любви к императору, насколько «Иосифу» сейчас тяжело, за что сперва расстреляли мужа, зампреда Госбанка, а в 1942 году казнили ее, и мысли прекратились. Очередной уволенный из школы «за плохое воспитание» императорского сына педагог с двадцатилетним стажем страдающе писал императору правду: «…вопрос останется неразрешенным, пока не установится настоящая связь школы и семьи»; другой учитель признался: воспитывать детей в 175-й школе «в лучшем случае – бесполезно, а в худшем – опасно».
Владимир Шахурин учился в шестом классе (сезон 1941–1942 годов, Куйбышев, ныне Самара) – классе Светланы Молотовой. Местные учителя ходили пришибленные роскошью облика и свободой манер всей 175-й, но отказывались вести урок только в одном – шестом классе, там перехлестывало через край: дети боролись с неизбежным, с уготованной судьбой.
«Ребята не глупые, дисциплина ничего, – писала Светлана Молотова в тот же адрес, – но все-таки есть отчаянные мальчишки…»
Они сидели ближе всех к доске – приземистая Светлана и высокая Соня Стрельцова – на специальной парте: у Молотовой болел позвоночник, она носила корсет, и лечебная парта ездила с ней в Куйбышев и обратно. Стрельцова сопровождала Свету повсюду, она и охранник – тот ждал окончания уроков в пионерской комнате; когда подруги шли улицей Горького домой, следом двигались два неприметно внушительных товарища, вдоль тротуара, прикрывая шестиклассниц, ползла легковая машина, прохожие замирали.
Про появление безродной Сони в 175-й школе говорили: у Молотова погиб-разбился водитель Стрельцов (вполне возможно, спасая наркома), Вячеслав Михайлович и Полина Семеновна взяли девочку из жалости на прокорм и растят со своей, как родную. Вранье, конечно. Водитель не погибал и пережил дочь, убитую раком почки, – Соню взяли как щенка, она жила для того, чтобы Светочка не скучала, не общалась хрен знает с кем, – в одинаковых беличьих шубках, в пушистых шапочках с помпонами, одинаково закончив МГИМО, гуляли они парой, пока в закромах не вырастили и не отобрали для Светы сына авиаконструктора Илюшина, не признали годным, – и Соню отпустили на волю (молодые развелись); перед смертью Стрельцова призналась: тяжело, мне все вот это… было очень тяжело.
Школьников возили в Москву повидаться с родителями на американской авиапомощи – бомбардировщиках «дугласах» на восемь мест. По ступенькам вниз (в тот день, когда немецкие бомбы нашли Большой театр, университет на Моховой и ЦК на Старой площади) дочь императора привели в подземную Ставку и оставили для производства семейного тепла. Она увидела отсутствующего отца. Он смотрел на карту, на русские армии, он спросил, не глядя на девочку, спросил такую, какой должна быть его дочь, – получается в пустоту:
– Ну. Как ты там? Подружилась с кем-нибудь из куйбышевцев?
– Нет. Нет, мы же отдельно. Мы же в специальной школе.
– Как? – Император гневался тяжело (как запомнили: быстро вскидывая глаза на виноватых), жалея силы заниматься еще и этим. – Специальную школу? Ишь, правительство! Москвичи приехали! Школу им отдельную подавай! – И погрозил: – У-у, проклятая каста!
Каста – вот поэтому Эренбург спасал Нину от 175-й школы, а горячий, обаятельный, жадный Костя впихнул дочь поближе к Свете Молотовой.
Ж-свидетель: Как и все еврейские мамаши, Софья Мироновна хотела, чтобы сын учился музыке. Володя ходил к какой-то музыкантше на уроки, а потом сбежал с ее дочерью из дому, переправившись на лодке за Волгу, и устраивал свою семейную жизнь, пока его не разыскали. «Эта авантюристка хотела женить на себе моего Вовочку!» – кричала Софья Мироновна. Вам надо найти Юрку Коренблюма, если он жив, конечно, пил он будь здоров. Если найдете, передайте привет. Нет, встречаться с ним не стану, пусть помнит меня молодой».
Свидетель Коренблюм: «Моя настоящая фамилия Киршон (отец – Киршон, писал пьесы, его расстреляли 28 июля 1938 года по делу наркома Ягоды, какое-то время поиспользовав как внутрикамерную „наседку“; „Я спросил у ясеня… “ – его песня), мать сменила фамилию и увезла детей от войны в Омск. Туда ей написала из Куйбышева беременная Джема Афиногенова. Я осталась одна, писала Джема, приезжай, вместе жить легче. Драматург Афиногенов, друг отца, оказался единственной жертвой бомбы, угодившей в ЦК. Его направляли в США на усиление пропаганды, он заехал в ЦК за документами и на выходе – погиб.
Мы приехали нищими, имели единственную ценность – старинный кофейный сервиз. Софья Мироновна Шахурина тут же выменяла его у нас на продукты. Я оказался в одном классе с Володей.
– Софья Мироновна знала вашу настоящую фамилию?
– Вычислить нетрудно: она имела обширные связи, особенно в «культурной» среде, но дружить дозволяла. Володя, помню… совершенно белобрысый. Имел феноменальные способности к языкам: английский, немецкий, читал Гитлера, что-то из Геббельса с восхищением декламировал (врет? советский мальчик… в страшном октябре 1941 года… книги Гитлера? восхищение?).
– Вы слышали что-нибудь про его побег из дома?
– Еще бы! Так ведь и я (врет?) с ним бежал, и с этой… Наташей! Так он решил заставить родителей взять девочку в Москву. Нахапали продуктов, на пароме переправились через Волгу и переночевали в лесу. Нас искали чекисты, поднялась авиация в небо (врет?) – нашли и привезли обратно. Как раз к экзаменам. Я помню, учитель пришел к нам домой принимать экзамен. Ему предложили стакан чая и пирожное на блюдце. А голод страшный. На всю жизнь я запомнил: учитель чай выпил, а пирожное, как полагается… не доел.
– Что стало с девочкой?
– После побега я видел ее только раз: по Смоленской площади она шла со скульптором Никогасяном, известным… гм, ценителем женской красоты. Она выросла в яркую, красивую женщину.
– Вы считаете, Шахурин страдал психическим заболеванием?
– Почему? Что вы имеете в виду?
– В шестом классе убежал из дома. В седьмом ударил по лицу Галю Куйбышеву, как выясняется, за то, что посмела рассказать его куйбышевские приключения. Убил Нину Уманскую, застрелился. Шизофреник.
– Не знаю… Возможно все, но… Был, конечно, какой-то сдвиг в отношении девочек. Но – такая жадность к обладанию всеми как-то сочеталась в нем с жаждой верности. Вы заметили, что у побега за Волгу, смешного поступка, и убийства, поступка страшного, – один мотив?
– Какой же это мотив?
– Он не желал расставаться с любимой.
З-свидетель: Я помню его: невысокий, светловолос, коротко стрижен. Говорил медленно и четко.
Отцов наших расставили по местам, и мы знали, кому что положено. Володя – сын всего лишь наркома… Получается: третий разряд. Но он рвался выше, интересовался раскладом в Кремле. Просчитывал свой путь и предполагал, что будущее его зависит от успешного проведения задуманных интриг.
– Вы говорите про четырнадцатилетнего мальчика. Может быть, вы…
– Нет, именно так. Меня позвали к Шахуриным на дачу покататься на лыжах. Думал, разговоры пойдут о фильмах, девочках и учителях, а у него прям малое какое-то Политбюро: кто кого в школе ущемил, кто что затеял… И невероятно нервен…
– У него могли быть близкие отношения с Уманской?
– Близость с девочками? Вряд ли осуществима… К Володе допускали ограниченный круг людей – в этом кругу Софья Мироновна контролировала без исключения все.
– Вы сказали «невероятно нервен»…
– Так я сказал. Но и другое скажу: при этом он рос мальчиком очень хладнокровным, контролировал свои поступки. Он… Хорошо, я признаюсь: он не мог убить себя.