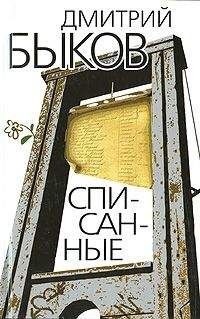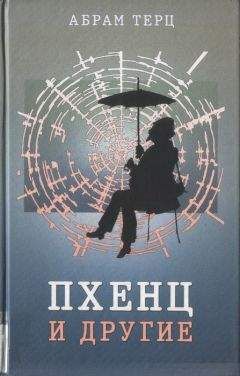— Вообще вы только что описали нормальный механизм формирования элиты, — сказал Свиридов. — Элита на виду, по ней догадываются о тенденциях, она уязвимее, и формируется она чаще всего именно списком — скажем, списком толстожурнальных авторов при совке, списком «Звезд на льду» после совка…
— У элиты, во-первых, есть права, — назидательно возразил Салтыков. — Есть возможности.
— Ну и у нас есть, только мы их еще не знаем…
— А, не смешите. Право сесть, как у Чумакова?
— Чумаков не один, и мы не знаем, за что он сел…
— Ах. «Опять эта проклятая неизвестность», — знаете анекдот?
— Знаю, знаю. Мне его за последний месяц три раза рассказали.
— А кто виноват, что вы с первого не понимаете?
— Подождите, Леша. Почему обязательно права? Бывает элита интеллектуальная, бывает светская. У нее никогда никаких прав, только право быть на виду и подвергаться социальным изменениям в первую очередь… На ней как бы демонстрируется, что сейчас будет со всеми…
— Никогда не слышал о таком способе формирования элиты, но допустим, — буркнул Салтыков. — Понимать элиту как фокус-группу — это, знаете, что-то новое. Но допустим, что они сделали именно фокус-группу. Тогда, во-первых, категорически непонятен принцип отбора, что уже исключает всякую транслируемую мысль…
— Почему непонятен? Модель народа, говорил же Волошин…
— Ну какая модель народа, Сережа? Что вы свое сценарное образование никак не уймете, выдумываете сюжет, где нет сюжета? Где в этом списке крестьянство — в крестьянской стране, где сельское население до сих пор шестьдесят процентов?
— Может, они составляют модель городского. Сельское нерелевантно, ничего не решает, спивается…
— Ничего себе подход, шестьдесят процентов нерелевантны! Вы истребитель прямо! Дети тоже нерелевантны? Старики? Они что, один средний класс моделируют, в диапазоне от двадцати до пятидесяти? Но даже и это допустим, я сегодня добрый. Если бы тем самым транслировалась какая-то мысль, я бы понял. Но транслируется чистое истребление с предварительной диспансеризацией, и я не понимаю, что должно сделать население, которому показывают такую вещь. Я понимаю, когда сажают олигарха: остальные олигархи должны заткнуться и раздать часть активов на благотворительность. Но когда сажают Чумакова, что должны делать остальные чумаковы? Разбежаться из страны? Выброситься из окна? Какую цель они преследуют, кроме разделения и истребления, — у вас есть хотя бы догадка? По-моему, они просто пометили крестом людей, с которыми все можно: тут вам и идеальный выход для народной эмоции, и полная неспособность делать что-нибудь созидательное, все дела.
— Но деление и взаимное истребление существовали во всем мире. Вы наверняка знаете, что при Елизавете в Англии было еще кровавей, чем при Грозном…
— Господи, ну что вы повторяете эти зады?! Вы же не производите впечатления зомби, простите мой французский! Что вы, Мединского обчитались? Он тоже все доказывает с цифрами в зубах: мы не пьяницы, потому что американцы пьют больше. И не садисты, потому что при Кромвеле убили больше. Все эти оправдатели национальных матриц никак не возьмут в толк: да, убивали, да, больше, да, все вообще когда-нибудь умрут, и со статистической точки зрения между Грозным и любым европейским монархом нет принципиальной разницы, плюс Грозный рисовал и музицировал. Проблема в одном, передайте Мединскому, если встретится, — водка действовала, и отступления Салтыкова становились все многословнее. — Когда девственница-королева уничтожает, положим, Саутгемптона или Эссекса, она искореняет измену или окорачивает зарвавшегося фаворита, но в любом случае вытворяет все эти художества не на пустом месте. Людей варят в котлах, да, но не в массовом порядке, не коптят, не рубят, как туши, не участвуют в казнях лично, не пронзают допрашиваемых посохом, не выдумывают заговоров каждый год, не делят всю страну на англичан и неангличан, на ground-щину и ехсерщину, простите мой английский… Во всех ужасах Елизаветы и Кромвеля, и даже во всех почти ужасах Робеспьера есть смысл и причина. Нигде так явно не прослеживается оргиастическое начало, радость ножа, как говорил Адамович, нигде нет такого упоения процессом при абсолютной мизерности цели — потому что чего он достиг, сука, своей земщиной и опричниной? Что он укрепил, какую вертикаль? Пуф, смутное время, ноль пользы. Страна в говне, народишко сам себя за волосы выволок. А теперь — святой, теперь — с нами иначе никак! Теперь Сталин. Общее место: взял страну с крестьянской лошадкой, оставил с космической ракеткой. Во-первых, сколько помню, это приписывается Черчиллю, а Черчилль вообще был человек не особенно доброжелательный к прочим нациям, он говаривал, что и Гитлер хорош для Германии, и Муссолини для Италии, и Честертон, кстати, приветствовал Муссолини — вы в курсе?
Свиридов кивнул, хотя мало знал о Муссолини и того меньше — о Честертоне; но Салтыков и не нуждался в подтверждениях.
— Это, знаете… еще по двести, да? Алло, еще по двести! — Белоруска хихикнула на его «алло» и поспешила налить. — Это как белый человек смотрит на игры туземцев, и естественно, чем больше туземцев перебьет очередной вождь, тем лучше для британской короны. Обратите внимание, в Англии всегда одобряют русскую диктатуру. Я вам больше скажу, ее и Штаты одобряют. Но это потому, что мы им когда-то, на миг, показались своими, — а теперь стали окончательно и бесповоротно выродками, чуждым народом, которому безнадежно прививать мораль. Себе бы такой власти в жисть не пожелали, но для дикарей то самое, бич Божий в натуральную величину.
Салтыков выпил и уставился на Свиридова.
— Смысл, смысла… Всем смысла! А мы живем во времена величайшего его выхолащивания, мы с вами уже вовсе ничем не виноваты, не посягали на власть, не колебали мировых струн, тихие обыватели. Вы видели мебель в квартире Чумакова?
— Видел, — кивнул Свиридов. Ему положено было обращать внимание на декорации, и он заметил обшарпанные шкафы из ДСП.
— Это похоже на магната? На тайного агента?
— Нет, пожалуй. У тайного агента или фанатика было бы совсем голо или бардак, а тут честная бедность. Жалкое зрелище.
— Ну! — кивнул Салтыков. — Я про что и говорю. Чистое спортлото. Ну, может, кого-то — с учетом заниженной сопротивляемости, потому что жертва должна быть жалкой. Ручки тоненькие, ножки тоненькие. Вы же видели эту семью. Как вам мамаша?
— Жалко мамашу.
— И вашу жалко. И мою жалко. Моей матери, между прочим, шестьдесят пять лет, я ранний ребенок. Вполне себе бойкая пенсионерка, подруг масса, женоклуб. Гордится моими успехами как я не знаю что. Особо гордиться нечем, но тем не менее. Фотографии — я и внучки, я и осетры. Очень жалко трогательную старуху и весь женоклуб. Но они от этого и получают особенное наслаждение — борца что же толку хватать? Он только того и ждет, он от этого кончает… А мы плачем, робеем, спиваемся вот тут с вами, обсуждаем участь, пища пищит… Они чаще всего берут семейных, вы заметили? Одиночки никому не нужны.
После этих слов Свиридов понял, что вся салтыковская ненависть к отчизне проистекала из страха за семью, бешеного и неотступного. Любить действительно можно что-нибудь одно — или семью, или Родину, и Родина все время угрожала семье. Надо бы узнать, не было ли у Чаадаева тайной страсти или большой семьи; семьи, кажется, не было, мать умерла, когда он был младенцем, что-то было с адресаткой философических писем, темная, бурная история… но скорей всего, виновато было нежное сложение, хронический страх всего, из-за которого он незадолго до смерти даже и доносил, доказывая благонадежность; вот о нем Свиридов читал, поскольку предполагался байопик о Пушкине и надо было знакомиться с материалом. Философическое письмо ему, кстати, понравилось — но слегка смутило именно удовольствием, с каким было написано; автор злился, досадовал, упрекал, но не страдал. Он был хорош на фоне России, такая Россия была нужна ему для самооценки. Вообще все картины мира, в которых во всем была виновата среда, отдавали оскорбительной простотой. Свиридов сам не понимал, отчего салтыковская вера в русскую само-истребительность ему противна; тошней всего было думать, что он стремится поскорей свернуть этот разговор из трусости, потому что Салтыков разглагольствовал все громче и рискованней, могли услышать, подслушать… Ужасно было это стремление объяснять все наиболее унизительным для себя и других образом, и ведь появилось оно недавно, только со времен списка, словно все попавшие туда лишились права на благородную мотивацию. Свиридов воспротивился заказу очередных двухсот граммов и позвонил Але. Этого ему хотелось больше всего, и отказывать себе он больше не мог.
— Приезжай, — неожиданно сказала она с грустной лаской, какой Свиридов давно уже не слышал в ее голосе; кажется, она тоже устала чему-то сопротивляться. Он попрощался с Салтыковым, быстро потерявшим к нему интерес и явно набравшимся, и отправился на «Киевскую», где они договорились встретиться. Аля уже была там — она редко приезжала вовремя, а тут дожидалась, и Свиридову увиделся в этом хороший знак. Стало быть, не ему одному несладко в разлуке. Они поднялись на площадь Европы и уселись под пестрый зонтик. Свиридов расслабился и сразу заговорил о том, как не может больше один, как измучился, как сходит с ума от страхов и призраков, — но начисто забыл, что расслабляться с Алей нельзя. Она любила его либо победителем, либо в худшем случае борцом.