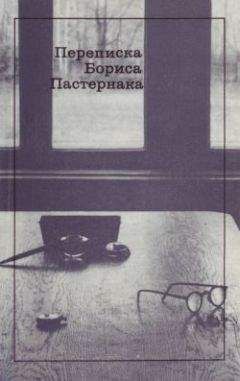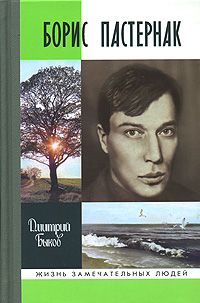Последнее предложение явно требовало корректив, потому что из него совсем не было понятно: отцу было по-настоящему тяжело жить или ему тяжело было жить по-настоящему. Но почему-то мне не хотелось вносить ясность в это предложение. Как и в ситуацию в целом. Со временем я заметила за собой, что если раньше просто не решалась начать с отцом этот разговор, то теперь уже не очень-то и хотела узнать, как все выглядело в действительности с его точки зрения. Намного удобнее было просто придумать себе отца и менять в нем все, что захочется, в соответствии с требованиями ситуации. Еще проще было придумать себе маму, которую я почти не помнила, и каждый раз менять причины ее самоубийства, а время от времени позволять себе даже своеобразный хеппи-энд и убеждать саму себя в том, что версия самоубийства такая же моя выдумка, как и все другие версии. Ни бабушка, ни отец никогда не рассказывали мне о том случае, его только так и называли “тот случай”, как будто всем было ясно, о чем идет речь. А это вполне могло быть никакое не самоубийство, а, например, трагическая случайность. Как и с парнем лет двадцати из дома напротив, который у всех на глазах упал с балкона и разбился. Это случилось в субботу, накануне Пасхи, при массе свидетелей, и каждый выдвигал собственные версии. Дети во дворе говорили, что он разговаривал с другом и слишком далеко высунулся с балкона, не смог удержать равновесие, еще кто-то предположил, будто парень мыл окно и поскользнулся, была и такая версия, что на балконе висело свежевыстиранное белье, с которого накапало воды, и поскользнулся он из-за этого. Но были и еще менее правдоподобные версии, как, например, та, что у него упала вниз крашенка и он потянулся за ней. Что именно произошло на самом деле, так никто и не узнал. Приехала “скорая”, констатировала смерть, но забирать труп не позволили, пока не приедет милиция. Парнишку накрыли клеенкой, и он лежал на чьей-то клумбе с цветами еще полдня — я поминутно выглядывала в окно и долго не могла заставить себя оторвать взгляд от этого куска клеенки. Потом труп забрали, я не видела когда, как не видела и самого происшествия. Так до сих пор и не знаю, с какого именно балкона выпал тот парень, но постоянно ловлю себя на желании выглянуть в окно и убедиться, что на той клумбе никто больше не лежит, и мне кажется, что трава на месте происшествия теперь навсегда останется примятой и сохранит контуры тела. Наверное, с мамой случилось нечто похожее, и все сразу выдвинули разные версии произошедшего. Версии были взаимоисключающими, но это никого не останавливало, каждый был убежден в своей правоте и ошибочности мнения другого. Поэтому все мои попытки узнать что-то конкретное о мамином случае обречены на неудачу, и каждая из версий, которую я себе придумываю, на самом деле не менее правдоподобна, чем те, что могли бы рассказать мне очевидцы.
Меня всегда интересовал механизм этой ненадежности собственной памяти, когда вспоминаешь эпизод, увиденный собственными глазами, и с каждым разом замечаешь, как видоизменяются те или иные детали, теряют контуры, приобретают новые трактовки и наконец история начинает жить своей жизнью и вообще не имеет ничего общего с тем, что происходило в действительности. Еще больше деформации становятся тогда, когда не просто вспоминаешь, а пересказываешь кому-то увиденное или пережитое. А больше всего — когда описываешь это, скажем, в письме. Хотя, с другой стороны, именно тогда и переживаешь все на самом деле. Ведь в момент, когда все происходит, часто просто не успеваешь сосредоточиться на собственных чувствах и осознать все мелкие детали и нюансы. А зачастую весь смысл пережитого сводится к предвкушению рассказа об этом знакомым и удовольствия от удивления, которое отразится на лице собеседника.
Главное при этом — попасть на собеседника, который не разрушит иллюзий и благодарно отреагирует на услышанную не в первый раз историю, скажем, об отпуске, точнее, о том, как поселились, чем питались, сколько выпили. И благосклонно посмотрит свежие фотографии этого года, которые ничем не отличаются от виденных им в прошлом году. При этом не следует задумываться над тем, стоило ли ехать так далеко и нельзя ли было просто выпить и съесть все то же самое на месте. Потому что важнее всего сам момент рассказа, момент, когда собеседник потрясенно кивает и когда можно по ходу изменять то, что произошло, в соответствии со своими желаниями. Сгущать краски, ретушировать факты, добавлять к собственным впечатлениям услышанное от кого-то или даже просто придуманное. Наверно, вся суть именно в возможности обращаться с действительностью как с куском пластилина или компьютерной игрой, но при этом сохранять даже для самого себя иллюзию реальности.
Хотя также не стоит недооценивать и факт избирательности памяти, которая самостоятельно решает, что именно ей хранить, а от чего избавляться навсегда, и часто удивляет, когда выясняется, как быстро забываются вещи важные и как надолго задерживаются воспоминания о каких-нибудь несущественных мелочах. В основном такая потеря контроля над ситуацией раздражает, но есть в этой безжалостной избирательности и свои преимущества. Например, когда происходят вещи малоприятные, которые хочется поскорее забыть. И хотя удается это довольно редко, так как почему-то гораздо чаще теряются положительные эмоции, сама надежда на то, что удастся забыть неприятное, уже утешает. А осознание этих неминуемых потерь усиливает неуверенность в том, насколько то, что сохранила память, соответствует действительности и существует ли вообще действительность как таковая, если каждый видит ее по-другому и каждый раз иначе.
Сейчас, когда я совсем взрослая, а мамы уже так давно нет, бесчисленные эпизоды из детства, в которых я помню ее, обрели особую ценность. Я не позволяю себе перебирать их в памяти слишком часто, чтобы эти воспоминания совсем не утратили правдоподобия, но всякий раз, перебирая их в памяти, не могу противостоять искушению идеализации, приближения действительного к желаемому.
К примеру, чтение вслух. Я очень любила, чтобы мне читали вслух, и могла часами слушать книгу, которую давно знала наизусть. Я знала наизусть большинство своих детских книг и очень жалею теперь, что это далеко не всегда были те детские книги, которые бы мне хотелось запомнить, или даже не так — что далеко не все книги, которые мне бы хотелось знать наизусть, были тогда мне доступны. Я до сих пор вспоминаю шершавое прикосновение темно-коричневой дерматиновой обложки “Русских народных сказок” — книги, в которой не было ни одной иллюстрации на все 500 страниц мелкого текста, а многие сказки были совсем не “русскими”, как выяснилось уже позднее. Вспоминаю и сказки народов мира, изданные в серии, гораздо более приспособленной к детским потребностям. Из этой серии в моей памяти сохранились почти одни иллюстрации, и я часто ловлю себя на том, что пытаюсь представить себе рядом, скажем, сиротку Марысю и Иванушку-дурачка, Карлсона и Змея-Горыныча, Химпелхена и Пимпелхена и Правду и Кривду. Но персонажей русских сказок и сказок, к примеру, украинских, которые в том же издании стали “русскими народными”, представить мне тяжело, я знаю их только по описаниям. Поэтому картинка получается каждый раз другой — то Катигорошек высокий, светловолосый и с голубыми глазами, то — невысокий, черноволосый и с глазами карими, а иногда на нем вообще вместо вышиванки случайно оказывается косоворотка, хотя вместо чуба на голове казацкий оселедец. Все это, наверное, проблемы моего неразвитого воображения, которое с трудом переводит словесные описания в зрительные образы. Но от этого только усиливается ощущение неуверенности и недоверия к собственной памяти, которая не способна зафиксировать даже таких простых вещей, как точный цвет глаз Катигорошка, хотя сложно отрицать и то, что цвет глаз для этого персонажа не принципиален.
Мама редко находила время, чтобы почитать мне перед сном. Вечерами у нее в основном были занятия в танцклассе или же они ходили куда-то с отцом. Это не очень соответствовало образу идеальной матери, так что я часто позволяла себе заменить в воспоминаниях бабушку, которая каждый вечер читала мне вслух, на маму, которая делала это лишь изредка. Хотя я точно помню, что именно мама впервые прочитала мне про Пеппи Длинныйчулок, и с тех пор эта книжка стала моей любимой вопреки тому, что Пеппи, а точнее, ее чрезмерная взрослость больше мешала, чем помогала мне в жизни. Я чувствовала стыд, тайком меряя перед зеркалом мамину обувь на высоких каблуках, потому что, хотя этим и занимались все без исключения мои одногодки, Пеппи такого никогда бы не сделала, это я знала наверняка.
Не согласилась бы Пеппи и на попытки взрослых исправить ее леворукость. Не знаю, почему бабушка решила переучить меня, послушавшись советов Галины Степановны, моей первой учительницы, которая никогда не была для бабушки слишком большим авторитетом. Тем более что переучить меня так и не удалось.