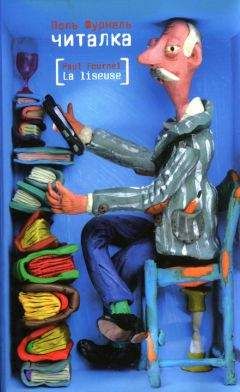В настоящий момент шестовик как раз расположился на моем диване; он сидит, как сидят все спортсмены: расслабленно, ноги подняты кверху, голова откинута назад. Когда с ним все в порядке, в те дни, когда он не прыгает и не тренируется, чтобы прыгать еще лучше, он пребывает в вялом полусонном состоянии. Сегодня — и это не исключение — с ним не все в порядке. Его терзают муки шестовика. Его лицо непроницаемо. Люди, которые близко не знакомы с шестовиками, могут подумать, что у него плохое настроение. Однако у него нет никакого настроения; если он и расстроен, то только из-за себя самого; он — одинок, он — несчастен, он — словно в конце дорожки для разбега, где рядом нет никого, кто бы мог подсадить его для прыжка. Можно было бы сказать, что к нему просто так не подступиться, но, на самом деле, он вообще неприступен. Когда я трогаю его за икры, они — как деревянные; когда я трогаю его за плечи, они — как каменные. Он словно огражден своими мышцами и мысленно забаррикадирован. Его парализует не бессилие; проблема — не в забеге, не в толчке и даже не в сложном переворачивающем движении, которое я так часто у него замечаю в обычной жизни: все это не то. Все свои технические проблемы он разрешает методично, одну за другой, путем изнурительных тренировок. Нет, технических изъянов у него нет; у него — страх.
Единственная вещь на свете, которая сейчас — скажем, в течение последних пяти-шести дней — может внушить ему страх — это он сам.
Он не боится своих соперников: он знает, что может победить их всех, даже русского. Он не боится неизвестных площадок для прыжков: он знает их все до одной. Никогда еще он не был так в себе уверен.
Вот сейчас он закурит сигарету и выпьет бокал пива, из духа противоречия. Если я с ним заговорю, он мне не ответит. Если я попрошу его сходить за хлебом, он скрепя сердце спустится в булочную и вернется без сил, подъем по лестнице (я живу на третьем этаже) его действительно изнурит.
Шестовик — это человек, у которого не должно быть проблем. Поэтому на него работают два тренера, один врач, один массажист, один психолог и один софролог. Если он пожелает, ему могут даже погадать по руке или на картах. Желательно, чтобы у него не было проблем с любовными историями: для этого у него есть я, а я из этого проблемы не делаю. У него не должно быть проблем с деньгами, однако даже лучшие шестовики должны следить за тем, чтобы им как можно лучше платили, по лучшему тарифу, но этим как раз занимается его менеджер, а менеджер у него хороший.
В настоящий момент единственная задача шестовика — избегать всего этого общества; вот почему он почти все время валяется на моем диване. Он бледный, у него впалые щеки, а кожа такая белая, такая сморщенная. Он словно прижат этой несчастной шестиметровой планкой, у него болит живот, болят мышцы, болит левое колено. Когда я возвращаюсь с работы, он — как послушная безделушка, которая знает свое место — лежит там, где лежал, не сдвинувшись даже на миллиметр.
Он обретет свой настоящий вид шестовика только к вечеру, после того как возьмет свою первую высоту, упадет спиной на мат в яме и несколько секунд пролежит в такой «брошенной» позе — руки и ноги раскинуты в стороны. Мне каждый раз хочется тут же лечь рядом с ним.
А пока он — у меня; он, насколько это возможно, далек от меня, далек от самого себя и как никогда близок к своей самой лучшей спортивной форме.
В то время в Сент-Этьенне еще был велодром, гулкий, деревянный и пыльный, где было опасно находиться даже зрителям. Гонщики же там просто задыхались. Перед тем, как его снести, устроили последние соревнования: на трехстороннюю встречу, объявленную незабываемой, были приглашены Фаусто Коппи, Жак Анкетиль и местный уроженец и восходящая звезда Роже Ривьер.
Каким-то чудом мой отец достал нам два места в ложе. Когда мы пришли, в ложе уже сидела дама, которая, мне показалось, чувствовала себя там как дома. Ложа находилась прямо у бортика, при заходе на вираж, и наклон, под которым проходит круг стадиона в этом месте, вызывал у меня головокружение. Уже несколько сезонов на моем велосипеде не было стабилизаторов, но одна мысль о том, что можно проехать по наклонным стенам этого рва, повергла меня в ужас. Итак, я сидел как маленький послушный мальчик, положив руки на голые коленки.
На трибунах зрители топали ногами. Все дрожало и прогибалось. То тут, то там болельщики дули в медные трубы, и я, помню, очень удивился тому, что в городе такое количество трамвайных вагоновожатых. Я считал, что только им можно свободно обращаться с горном.
Воспользовавшись крохотной паузой среди общего гвалта, диктор объявил программу: после нескольких гонок местных любителей и перед соревнованием на средние дистанции, три наших чемпиона («возможно, три самых великих чемпиона всех времен») будут соревноваться попарно в гонке преследования и на скорость.
Их поочередно представили, а затем они минут десять разогревались у нас на глазах. Все присутствующие единодушно болели за Роже Ривьера и выражали свое предпочтение насколько хватало голосовых связок.
Наша ложа была островком спокойствия: моего отца зрелище забавляло, я от волнения замер, а дама в черном платье пожирала глазами молодого чемпиона, не разжимая губ.
Роже Ривьер, медленно повернув к дорожке, направился к нам.
Он остановился перед нашей ложей и ухватился за поручень перил прямо рядом со мной. На его руках были перчатки без пальцев с плетеным верхом. Дама положила свою ладонь на руку Ривьера, улыбнулась ему и, указав на гонщика, сказала мне:
— Это мой мальчик.
Я запомнил ее сильный сент-этьенский акцент.
Затем он бесстрашно соскользнул с верхней точки виража до безопасного края «Средиземноморья» (отец только что успел мне объяснить, что так называют плоский синий отрезок в самой нижней части дорожки, единственный, на который я бы отважился выехать).
Я был в полном восторге: присутствовать на гонках, да еще сидеть рядом с настоящей мамой Роже Ривьера.
Заезды следовали один за другим, и я совершенно забыл о времени: Анкетиль победил Коппи в преследовании, Ривьер победил Анкетиля, затем победил Коппи. Коппи победил Анкетиля на скорость, и теперь все ждали финального поединка между Коппи и Ривьером, который диктор назвал решающим, поскольку оба выиграли первый этап гонок...
Наступила напряженная пауза. Я до сих пор не могу забыть, какая глубокая тишина воцарилась среди зрителей. Тишина с неизбежными столбами серой пыли, которая, казалось, висела в свете прожекторов.
Оба чемпиона принялись за дело — дело чести — всерьез. Ривьер, прославленный рекордсмен мира, мощно вырвался вперед, Коппи, как стрела, полетел следом. В конце первого круга и тот, и другой подъехали к бортику, чтобы попытаться перехитрить соперника. Ривьер хотел пропустить Коппи вперед, а в финальном рывке его обогнать. Коппи не поддался на хитрость, и Ривьер решил навязать ему сюрпляс. Он остановился. Коппи остановился сзади, в двух метрах от него, заблокировав педали. Один из них — более неуравновешенный, более напряженный — не выдержал бы первым и неизбежно возглавил бы гонку.
Ривьер застыл в нескольких сантиметрах от нас, точно на той точке, откуда он мог ринуться вниз и набрать максимальную скорость. Он стоял передо мной, в своих туклипсах, повернув руль к бортику, и смотрел назад, на соперника.
В первую секунду я даже его не узнал, настолько его лицо изменилось к концу заезда. Теперь он казался мне старше, чем мой отец.
Его мать придвинулась к краю сиденья и нежно прикоснулась к рейтузам сына. Она дрожала.
— Ничего страшного, если ты не выиграешь, — прошептала она с грустью в голосе, — только не упади...
Коппи мог бы этим воспользоваться, чтобы рвануть вперед, но не стал этого делать.
Шарлотте едва исполнилось пять лет, когда она впервые очутилась в конюшне. Там все было такое теплое, такое пахучее, такое шумное в своей животной жизни, что она поспешила спрятаться между лошадиных ног. Она не пыталась привязаться к лошадям, она и не думала относиться к ним как к собачонкам или игрушечным тракторам, как это инстинктивно делают многие. Она просто склоняла свою голову к их коленям и довольствовалась тем, что гладила основание шеи, до которого она могла достать рукой, встав на цыпочки.
Ничего не понимая и лишь чувствуя, что вокруг сильно пахнет, рядом — тепло, а под рукой — мягко, она — только потому, что, задержав взгляд, дождалась ответного взгляда — сумела обратить его силу в свою детскую пользу.
Лошади — животные не очень умные, но прекрасные медиумы. Вы подходите к ним со страхом, они улавливают ваш страх, играют на нем и возвращают его вам в виде стойкого и часто необратимого ужаса. Вы приходите к ним раздраженным — они дают вам настоящий урок раздражительности. По тому, как вы надеваете им на спину седло, они уже знают, какой вы всадник. Вес вашей левой ступни в стремени вас выдает. Первый же отданный им приказ может вам стоить часа мучений.