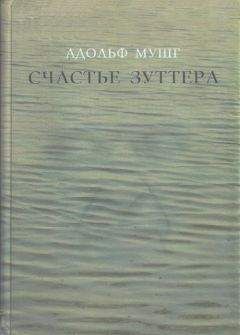— Пожалуйста, не сердитесь на меня. Я делала это ради вашей жены. Желала спокойной ночи, чтобы напомнить о Руфи и немножко утешить вас. Руфь жива, — уверенно сказала она.
Зуттера знобило все сильнее. Он хотел сказать, что все это чудовищно. Но только проговорил:
— Очень мило с вашей стороны.
— Вы, наверно, терялись в догадках? — на губах фрау Кинаст появилось хитроватое выражение.
— Да уж, пришлось поломать себе голову, — хрипло произнес Зуттер.
— А вы заметили, что я помнила о вашем дне рождения? в голосе ее звучало лукавство. — И подала всего два сигнала.
— Ага, фрау Кинаст. Нет, я совсем забыл о своем дне рождения.
— А вот это плохо. Мы появляемся на свет только один раз.
— Это ваш ангел подсказал вам, что в меня будут стрелять?
Она удовлетворенно улыбнулась.
— То, что я оказалась там в нужное время, вряд ли было случайностью. Всех нас ведет таинственная сила.
— Кто же в меня стрелял? Что думает об этом ваш ангел?
— Недобрых людей он мне не показывает, — ответила она. — Он не из самых могущественных. Не из тех, что сидят на тронах и правят миром.
Зуттер не отводил взгляда от вечнозеленого синтетического дерева.
— Вы читали «Субито»? — лукаво спросила она. — Журналист хотел знать: «Существует ли связь между судебным репортером Г. и супружеской четой К.?»
— Фрау Кинаст, не затруднит ли вас позвонить мне сегодня, в обычное время?
— Такие вещи не повторяются. С этим не шутят. Потому-то я и не звонила вам больше, когда вы вернулись из больницы. В этом уже не было необходимости. А сейчас простите меня, а то мой Франц начнет беспокоиться.
— А как же фотографии?
Она приложила палец к губам.
— Их проявят только завтра. Ничего, он подождет. У него есть его марки.
Она протянула ему свою костлявую руку и быстро отдернула ее. Потом легко преодолела один пролет, остановилась на повороте и махнула рукой.
— Передавайте привет горам. Ведь мы тоже там бывали, и не раз. В Браунвальде. Тишина, господин Гигакс. Тишина! В ней все дело.
В ответ он нерешительно поднял руку. Она подпрыгнула и исчезла.
«Такими вещами не шутят, — сказал он про себя, — они никогда больше не повторятся».
Часть третья
В горной долине
29
Сказать, что он радуется поездке в Сильс, было бы не совсем верно.
«Нынче славный день для смерти». Руфь научилась этому утреннему приветствию индейского племени могавков в группе самопознания. Индейцы, как дети природы, ни о чем таком при этом не думали. Но мы, всегда думавшие слишком много, не могли не научиться что-то чувствовать, произнося эту фразу. «Как будто главной проблемой этих людей было многомыслие, — говорила Руфь. — Представь себе, Зуттер: переношенные дети, которые с нетерпением ждут, когда их перепеленают и накормят. Когда можно будет закричать впервые после рождения или с плачем пожаловаться на своих глупых матерей. И я со своим раком. Нынче славный день для смерти. Не для того явилась я на этот свет. С этими людьми мне не хотелось бы даже умереть. Охотнее всего я задушила бы кого-нибудь из них».
«Тогда тебе пришлось бы пустить в ход собственные руки, Руфь».
«Играть ведь мне было позволено. Они бы рассматривали это как прорыв! Как Coming out»[22].
«Да, Руфь, тебе уже нельзя было помочь».
«А теперь уезжаешь ты, хочешь меня утопить. Думаешь, тебе это удастся?»
«Сегодня мне удастся кое-что еще, Руфь. Сегодня я открою кошке приготовленный тобой корм. Чтобы отметить этот день. Последнюю банку, оставшуюся после тебя».
«Для этого сперва нужно научиться пользоваться специальной машинкой, Зуттер, неужели ты и в самом деле впервые ее откроешь?»
«Я и кошку в приют для животных отвожу впервые. И впервые без тебя еду в Сильс. Один — и с тобой».
«С урной, Зуттер. Ты что, уже путаешь жену с урной?»
«Я расстаюсь с ней, Руфь».
«Желаю удачи, Зуттер».
Зуттер что-то бормотал про себя, расхаживая по квартире. У расставаний уже то преимущество, что еще раз осматриваешь свои пожитки. Все вынуть назад из картонок, поставить опять на полки, а картонки сложить и отправить в подвал.
Кошка испуганно взглянула на него. Он засмеялся. Она сидела на столе и не думала сопровождать его в инспекционном осмотре квартиры, пока он не направится прямиком на кухню. При жизни Руфи ей не позволялось сидеть на столе, даже когда Руфь под конец принимала пищу, если под пищей понимать тарелку бульона, уже в своем «кресле сказок». Только не в постели, тут она была непреклонна. Но она же настаивала на том, чтобы Зуттер и впредь ел только за столом. Готовая покинуть этот мир на софе, остающийся — за накрытым столом. И ни в коем случае не позволять кошке забираться на стол. После смерти Руфи она сразу же прыгнула на него, и Зуттер не стал ее сгонять. «Руфи больше нет, и мы можем себе кое-что позволить. Отныне будем делить с тобой кровать и стол».
«Над чем ты смеешься?» — вместо того чтобы таращить в испуге глаза, могла бы спросить кошка.
— Вспомнил стихотворение «Ночью близ Буссето», — сказал Зуттер, и в голосе его послышалась дрожь. — «Юного, вдали от дома, / его в землю закопали, / кудри, вьющиеся густо, / его плечи облегали». — Кошка все еще смотрела на него. — «И без сил, вдали от дома, — продолжал он. — И небрит, вдали от дома».
Бывали дни, когда любая, даже дурацкая острота могла заставить Руфь смеяться до слез. «По теченью вверх ли, вниз ли / смелые бредут голландцы, / а за ними, будто гризли, / лезут храбрые шотландцы». Это было похоже на страшную сказку о господине Корбесе, которую так любила слушать Руфь. Храбрых шотландцев в сказке не было, но они вполне могли там быть и, без сомнения, приложили бы руку к гибели незнакомого и такого несчастного господина Корбеса.
— Сегодня, кошка, тебя ждет прощальный обед.
Он достал с полки последнюю банку, оставшуюся от запасов Руфи.
«Разве ты не знаешь, Зуттер, что тебе ее не открыть? Это могла только Руфь, даже когда у нее уже почти не оставалось сил. Сила тут совсем не нужна, Зуттер. Электричество давно изобретено, оно все сделает за тебя. Умный прибор удобно расположился в стенной нише, его не надо было даже снимать. Вон торчит нож-резец, ты вдавливаешь его в крышку банки. Потом крепко держишь банку, в то же время позволяя открывалке поворачивать ее вокруг ножа и делать то, для чего она создана».
Кошка с интересом следила за тем, что выйдет из этого руководства к применению. Выходило все что угодно, кроме корма. Резец или отскакивал от края банки, оставляя на нем вмятину, так что к этому месту его уже нельзя было приставить, или же если и протыкал крышку, то не хотел двигаться по кругу и доводить до конца столь удачно начатое дело. Ему больше нравилось застревать и так трясти банку, уже издававшую из пробитой дырки запах, что она начинала танцевать на кухонном столе и не успокаивалась до тех пор, пока не выбрасывала лежавшую сверху часть своего содержимого Зуттеру на живот. Не все из этого выброса было в застывшем виде. Для кошки эта пахучая смесь из тухлой солонины была, надо думать, как мед для мухи. Во всяком случае, она терлась о штанину Зуттера, по которой стекал коричневатый сок, и от алчности глухо хрипела.
Лучше бы Зуттеру не знать, какое у него сейчас давление. Эти светлые брюки были единственные глаженые. В довершение всего банка выскользнула из его перепачканных пальцев, упала со стола на пол и покатилась кошке под ноги. Та отпрыгнула в сторону, но потом начала вылизывать тянувшийся по кухне след сока.
— Я этого не хотел, кошка, — сказал Зуттер и тяжело вздохнул. — А все оттого, что сначала надо было тебя покормить, а потом уже одеваться во все лучшее. Теперь мне остается или оставить на себе эти новые брюки и вонять тухлятиной до самого Сильса, или же надеть старые и выглядеть точно так, как я себя чувствую. И главное: ты все еще не кормлена.
После смерти Руфи он привык объяснять кошке, что он делает и почему. Чаще всего это сводилось к признанию им своей неполноценности. Все годы их супружества о кошке заботилась Руфь. Для кошки он всегда оставался чужаком, которого надо было терпеть. Даже в последний год своей жизни Руфь никогда не забывала покормить кошку. «Это моя утренняя гимнастика. Не отнимай у меня моей вечерней прогулки. Ты кормишь меня, я кормлю ее, а когда я сплю, она нашептывает тебе сказки. Наша кошка — француженка. Братья Гримм подслушали свои сказки у французов».
Шесть лет тому назад Руфь решила обзавестись картезианской кошкой. Для Зуттера это было сигналом, что она потеряла надежду заиметь ребенка. Опыт, обретенный ею во время визитов к врачам, лишь укрепил ее в решении никогда больше не отдавать свое тело во власть медицины. «В противном случае с этого момента меня занимали бы только проблемы моих врачей, Зуттер. Своих собственных я бы просто не замечала. Ради этого многие готовы заплатить здоровьем — я же скорее заболею, чем стану объектом медицины. Дело не в том, что медицина ничего не может, она может многое и давно уже слишком многое. Вот только она не видит ничего в шаге от ее пути, из-за яркости исходящего от нее света. Для врачей медицина становится все лучше, для больных — нет. Знаешь ли ты, Зуттер, что такое болезнь? Это когда на тебя опускаются сумерки. И ты не знаешь, вечер на дворе или утро. Мы для того и созданы, чтобы привыкать к сумеркам. Мы видим все больше, но все меньше знаем, что же мы видим. Я не хочу умереть под взглядом медицины, Зуттер, тогда от меня ускользнуло бы слишком многое. Я не увидела бы даже того, что видит кошка».