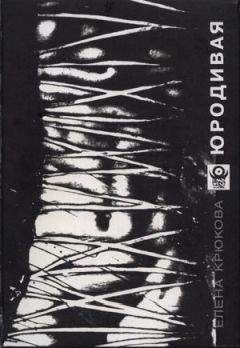Он еще раз протянул руку и коснулся волос Ксении.
— Милая, — сказал он тихо, — милая моя. Вот и здравствуй.
Здравствуй же и ты, мой золотой. Вот Ты. А вот я. Я Тебя заждалась. Я себя ставила на огонь, чтобы вода быстрей закипятилась — для них, вбегающих с морозу, из метели, пусть согреются быстрее, пусть зальделые ладони об меня, как о раскаленный чайник, погреют. Вот Ты! Трудно Тебе жить. Ты, как все мы, устал и замерз. Если боль — Тебе больно. Я спасу Тебя от боли. Я теперь всегда буду с Тобой. Теперь нас не разлучат. Вон под столом спит, прижимая звенящий деньгою мешок к груди, тот, кто уже продал Тебя. Он даже Тебя не целовал. Он просто плюнул в Тебя. Ты не боишься гвоздей, снова входящих в кожу и мясо? Четырехгранные, чугунные гвозди, они сразу дробят кости, рвут сухожилия. Пусть будет так: с одной стороны Креста — Ты, с другой — я. Пусть нас распнут вместе, одними гвоздями. Чтоб не тратиться. Игемоны, они жадные. Наша кровь польется в одно время, сливаясь. Прорежет жилу в мерзлоте. Уйдет в подзол. В пески. Напитает корни. Мы долго будем с Тобой переговариваться на Кресте. Я буду говорить Тебе о том, как долго я Тебя ждала; как призывала; как все мыла, чистила и драила к Твоему приходу. Приди хоть заполночь, хоть пьяный, хоть без руки, без ноги, хоть с выколотыми глазами. Приди один или с кучей приблудных жен, прижитых детей. Не можешь прийти — приковыляй, приползи. Не можешь ползти — лети.
Так буду рассказывать я Тебе, как я любила Тебя, вися с Тобою на одном Кресте, затылок в затылок. И ребятня будет бросать в нас монеты, каменья, сосновые шишки, несвежие овощи. И наступит время, когда надо будет испустить последний вздох. «Это страшно!» — крикну я Тебе. «Ничего, — скажешь Ты мне, кряхтя и хрипя, — ничего. Больно телу рожать душу. Вы, бабы, знаете все про роды лучше нас. Поднатужься. Напрягись. Помолись. Выкряхти. Выпусти птицу. Вон она, душа твоя, золотой махаон. Летит! И я с Тобой. Это наш полет. Они казнили нас, чтобы нам не ждать друг друга, не томиться. Чтобы мы вспорхнули сместе».
И мертвые головы наши обвиснут, упадут на грудь, а веселые наши души взовьются, засмеются! Только запомни, любимый, какие были у меня на земле глаза. Прошу Тебя, только помни там, в бесконечном голубом холоде и высокой чистоте, как раздвигала я Тебе губы губами, как целовала, обвивая шелковыми волосами, Твои грязные мозолистые ноги.
— Дай ногу, родимый, — шепнула Ксения доверчиво, — сюда опусти.
Она взяла за щиколотку ногу сидящего и сунула ее в таз с грязной теплой водой. Нежные пальцы гладили, мыли, ласкали. Щека прижималась. Ксеньины косы падали в таз, вымокли все. Она брала в кулаки густые пряди и обматывала ими натруженные ноги нищего. Волосы отсвечивали в биении факелов медным, рыжим. От волос на голени, лодыжки сидящего ложились золотые сполохи. Какая теплая, соленая, нежная вода. Плоть моя вся в мыле, и душа моя очищается. Эта женщина делает со мной чудеса. Зачем я попался в ее руки. Я теперь без них не смогу жить. Я не смогу жить теперь без этой женщины; а кто она такая? Не отнимет ли она у меня хлеб мой? Не накормит ли она меня сама пятью хлебами? Что я могу ей обещать? Что дать я ей могу? Я, нищий, голота и босота? Да ей ничего и не надо. Она улыбается широко. Не надо ей ничего от меня. Он сама мне все хочет дать. И я, я приму от нее. Приму, и она повернется и уйдет. И ее уходящая спина без слов скажет мне: еще не время нам умирать вместе на Кресте, живи, радуйся и люби. Она не знает, что я — ее Господь?! Она, она мне Господь, она мне Госпожа, она надежда и упование мое.
— На тебе подарочек, — прошептал сидящий и вынул из кармана мышиной хламиды жемчужную связку, и нацепил на шею Ксении, робея.
Ксения вспыхнула ярче красного вина в стакане.
Вот еще один дар, коего она не заслужила. Вовек не отработает. Дар будет жечь ей душу. Ляжет на нее ярмом. Божий дар! Зачем ты мне? Чтобы я, плача, любовалась тобой, обжигалась жаром ледяных бусин?! Нет уж, возьми обратно.
— Благодарю Тебя, Господи, — шепнула, — но я не играю в побрякушки.
И рванула с шеи светлую низку, и обхватила жемчугами красную распаренную щиколотку нищего, забрызгав испод хитона, а в это время нищие, гудя громко песни и сыпля непристойностями, несли на голые столы тарелки с новыми пельменями, а внутри пельменей дымилась картошка, ведь день был постный, и алюминьевые вилки гнулись в опасных руках, широких, как лопаты, и поглощали зевы земные яства — ешь, пока рот свеж, завянет — сам не заглянет. А Ксения все обнимала голую ногу сидящего, обмывала звенящей водой, прижимала к стопе щеки и губы. Жемчужную нитку завязала на лодыжке корявым узелком. Сердце ее выскакивало из-под ребер, как птица из кулака.
Нищий вынул ноги из таза и постукал пятками друг о дружку.
— Ты моя милая, — нежно сказал он Ксении, — ты моя желанная. Что мне сделать для тебя, чтобы ты не грустила?
Он взял ее под мышки, бережно поднял с полу и усадил рядом с собой на лавку. Ксения широко распахнутыми глазами ярко освещала его лицо, грудь, руки.
— Ешь, — молвил он и протянул ей на ладони красный соленый помидор. — Ты странница. Ты наша. Моя ты, моя! Успокойся. Переведи дух. Ты любишь соленые помидоры?
— Люблю, — сказала Ксения и облила помидор слезами. Соленый сок тек меж пальцев, капал на рогожу рубища.
Лик нищего прояснился, разгладился, щеки под бородою заалели роовым снегом на заре, в глазах засветилась синева зимнего ледяного озера, прозрачного, как друза хрусталя, — там сквозь толщу воды видно, как ходят в глубине елец и омуль, ленок и рыбка-голомянка, сделанная из одного жира, и все внутри у голомянки видно, все косточки-хребты, все жилы-жабры, и ничего не скроешь, все на просвет. Голомянка — рыбий ангел, сквозь нее видно мир. Мало живет она. Миг один. Мороз ударит — она в толстый лед вмерзает, глядит остановившимся глазом. Прощай, жизнь. Гляди сквозь меня, живое. Я стала стеклом. Морозом. Линзой. Я воском растоплюсь по весне.
— Ты рыбка-голомянка, — голос нищего сошел на прерывистый хрип, — ты голая, без кожи. Ты прозрачная насквозь. Тебя можно раздавить в кулаке. Как ты живешь? Чем ты защищена? Этим мешком? — Он ущипнул двумя пальцами складку Ксеньиной одежды. — Я защищу тебя. Я сберегу тебя. Ты ведь себя не сбережешь.
Ксения вздрогнула, повела плечами и выпрямилась. Глаза ее сверкнули. Белки в дыму пирушки отливали синим.
— Меня не надо беречь, — слова меж зубов Ксении зазвенели колокольцами. — Я сама себе хояйка. Все, что должно быть, будет со мной. О чем мы?.. Вот мы глупые. Уже ссоримся, печаль зовем к себе. Скажи лучше, как… — она закусила до крови губу… — как ты жил на земле все эти долгие годы?..
— Как жил? — Нищий ухмыльнулся, обнажил желтые резцы. — Жизнью. Как все живут. Тяжело, конечно, жить так долго. Устал. Упасть бы наземь и не шевелиться больше.
— Помочь тебе жить дальше? — спросила Ксения сухими губами.
— Помочь?.. — Теперь пришел его черед горделиво выпрямить спину. — Я сам себе хозяин. Где хочу, там и скитаюсь. Разве ты не такая?!..
Ксения потупилась. Две слезы резво сбежали по ее раскаленным щекам.
— Такая, — шепнула. — Видишь, какие мы с тобой одинаковые. Как одна мама родила.
— Брат с сестрой, что ли?.. — скривился он, и внезапно его улыбка из волчьего оскала снова стала сгустком света.
— Брат с сестрой, — выдохнула Ксения.
— Или муж с женой?.. — Нежность его голоса обволокла Ксению с ног до головы. — Почему ты не называешь меня, как все они: Отче?..
Нищие громко стучали об пол клюками и костылями, бабы кормили грудью и тетешкали спеленутые бревнышки, дети, сцепившись, клубками, как играющие собаки или котята, катались по полу. Пир жил своей законной жизнью, все шло как по-писаному, ангелы невидимо летали и трогательно заботились о празднующих, восстанавливая мановением рук водку в бутылях, исчезающие яства, караваи хлебов. Как молния ударила перед Ксенией. В резком свете она увидела, поняла все. Он все так подстроил нарочно. Он не захотел быть Царем и Владыкой Небесным. Напялил нищенское платье, побрел по кислым размытым дорогам, по лощинам, околицам и оврагам, слепым от дождя. Тянул руку: дайте кусок! Выжить. Спастись. Я устал быть Спасителем. Я хочу узнать, почуять, высмотреть, как мои люди на моей земле живут. Маленькие, бедные, жалкие люди, людишки, рабы и смерды, не ведающие ничего, кроме тычков и побоев, радующиеся лучшей награде за муки — черствому, заплесневелому куску. Так живут тьмы тем! Все живут под Луною! Почему бы мне так не пожить? Там, близ синей воды Геннисарета, близ бирюзовой воды Байкала, ты тоже жил так! Так, да не так. Совсем не так. Ты хоть и в старом наряде переплывал улицы и города, поля и веси, а все же от головы твоей намасленной исходило сияние, били из затылка лучи в разные стороны. Многие, дурни они, конечно, несмышленыши, называли тебя Царем, а иные так тебя Царем и считали. Не верили нищете и бедности твоей. И ученики у тебя были, и один из них, Иуда, даже ведал казною маленькой человечьей общины, земной твоей семьи, из верных друзей состоящей; Иуда всюду таскал ящик с драхмами, талантами и лептами за собою, гордо монетой звеня, а монету давали, жертвуя последним, наибеднейшие жители Галилеи, насельники Каны и Вифании; и бедняки не скупились, а богачи скупились, и все равно они с учениками жили хорошо, безбедно, всегда у них было ни что купить и одежду, и еду, и вознице заплатить, чтоб добраться из селенья в селенье, когда ноги устанут брести по пыльным дорогам; и никогда ты не жил на свете так, чтобы не испускать сияние, чтобы не слышать крики поклонения или ужаса, когда мертвые вставали, а бесноватые исцелялись, — просто ты на свете не жил, как последний нищий, горький бродяга, без углов, без роду, без племени: в твоем роду были двенадцать колен Давидовых, а эти несчастные?! Кости их прадедов — в бурлацких песках. Их деды лежат в общих могилах, холерных и тифозных. Их отцов ставили к стенке, клали под лязги колес. И они, дети невесть зачем на свет роженые, тебе же и молятся.