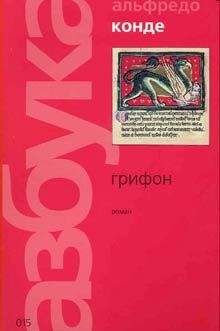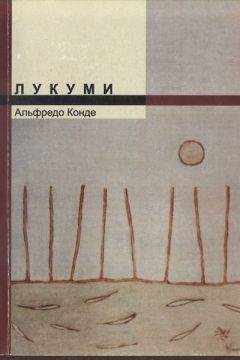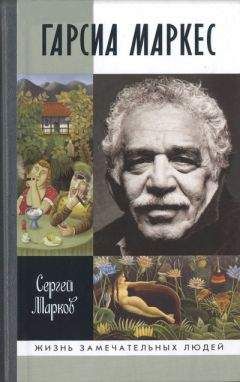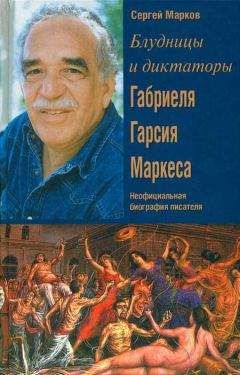Они входят в палатку, где итальянский сын дона Антонио де Лейвы [114] говорит на сладкозвучном итальянском наречии, жалуясь на острую боль в ноге. Посланец представляет их друг другу и переводит с одного языка на другой с поражающей всех присутствующих легкостью. Он свободно переходит с итальянского на ирландский, с ирландского на испанский или английский, потом на французский и даже на галисийский, обращаясь к какому-то лоцману, который, казалось, начинал уже забывать язык своей любимой земли.
— Вы и ваши люди должны остаться здесь и помочь нам в нашей борьбе с англичанами, — говорит О'Рурк Лейве, и всем известно, кто стоит за его словами. Но Лейва сомневается и недоверчиво отвечает:
— У меня нет на этот счет указаний от моего короля Филиппа, да хранит его Господь.
О'Рурк настаивает:
— Указания есть, они у Тирона, я сам их видел!
И тогда Посланец просит, чтобы они втроем остались наедине: то, что они собираются обсуждать, слишком серьезно и важно, а вокруг слишком много народу. В течение нескольких часов из палатки раздаются взволнованные крики, так что люди ирландца начинают уже беспокоиться, и только в сумерках выходят наконец от Лейвы ирландский командующий и галисийский священник.
Ранним утром Лейва спускается к берегу и поднимается на борт «Гароны». Он направляется на север Ирландии, желая встретиться с предводителем Тироном, чтобы тот подтвердил услышанное от тех двоих, которым Лейва все же недостаточно доверяет; но близ замка Данлюс, у Большого Гиганта, его ожидают рифы, судно терпит крушение и уходит на дно со всеми, кто был на борту. Какое ужасное несчастье!
* * *
Узнав о трагедии «Гароны», Посланец понимает, что делать ему здесь больше нечего. Его давнишняя, обретшая было новое дыхание мечта о том, чтобы соединить судьбу его маленькой, зеленой, такой милой и подчас грустной земли с судьбой Ирландии, такой же зеленой и столь на нее похожей, снова ускользает от него, словно вода сквозь пальцы; кратким воспоминанием остается лишь ощущение обновленной свежести тени, в которой она скрывается. Но это был поистине прекрасный сон. Если бы помощь, о которой шла речь, была действительно оказана, то в значительной степени благодаря Посланцу, и он был бы вознагражден в тот долгожданный момент, наступление которого могло бы задержаться еще на долгие годы, но он умел ждать: он знал, что подобные совместные действия порождают по-настоящему братские отношения. Впрочем, теперь они оказались окончательно разорванными.
Посланцем овладела печаль. Несколько дней он бродил словно неприкаянный, с отсутствующим видом. О'Рурк предложил ему свое гостеприимство, но Посланец предпочел затеряться в окрестностях лагеря, где он часами напролет наблюдал, как бьется о прибрежные скалы море, или предавался созерцанию неспешного полета чаек. Затем он занялся помощью тем, кто, оставшись на берегу, пытался скрыться от преследований предателя Фицвильямса. Сходство с жителями Коннота позволяло Посланцу появляться и пользоваться доверием там, где другому это было заказано; его дар владения многими языками выручал его в таких случаях, когда кого-нибудь другого уже можно было бы считать мертвецом.
Через несколько дней, когда он полностью осознал последствия гибели Лейвы, Посланец подумал, что жизнь, несмотря ни на что, продолжается и что здесь ему делать уже нечего. Это была уверенность, которую он испытывал и в другие трудные моменты своего достаточно долгого жизненного пути. Уверенность, позволявшая ему оставлять позади целые куски своей жизни, не испытывая при этом угрызений совести, ибо он твердо знал, что предыдущий жизненный цикл уже завершен, в прошлом ничего не осталось и все ждет его впереди, в самом непосредственном будущем, сегодня же, сейчас же.
Возможно, такая жизненная позиция помогала ему не оставлять слишком глубоких следов, браться за новое дело и выступать в новом обличье по прошествии определенного количества лет, начиная с того времени, когда его происхождение позволило ему отправиться на учебу в зарубежные университеты, задолго до того, как король Филипп строжайше запретил это, дабы уберечь свои владения, и не только территориальные, от проникновения ереси. Но именно еретические воззрения были той областью, где наш герой чувствовал себя особенно хорошо, ибо именно тут билась живая мысль. Было и нечто иное, что постоянно влекло его к непрерывному действию, к вечному беспокойству, что бросало его из стороны в сторону, от одного занятия к другому, из одной страны в другую.
В Аахене от старого маэстро Везалия он узнал древние тайны алхимии и постиг науку анатомирования. Затем он связался с турками и передал им взятку, с помощью которой император купил содействие и откровенность одного вероломного паши, того самого, что положил начало роду Мендоса-Гранада: Мендоса, потому что так звали маркиза, следившего по приказу императора за пашой, Гранада — поскольку именно в этом городе паша скрыл свое предательство, приказав задушить гарротой тех, кто присвоил себе императорские деньги. В Эксе будущий Посланец занимался организацией пересылки книг в страну, из которой он был родом, и посещал такие порты, как Ла-Рошель, доступ к коим обеспечивал ему его тогдашний ранг дипломата. Видимо, еще в ранней юности он познакомился с амстердамскими типографиями, когда в надежде заработать несколько флоринов он тайно посещал печатную мастерскую Иоганнеса Йансеониуса, беря листы для корректуры, которую он делал с быстротой, выгодно отличавшей его от других переводчиков: он мог поразительно бегло читать изображенный в зеркальном отражении текст, и от его внимания не ускользала ни одна опечатка, редкая синтаксическая ошибка не была им исправлена, а запятая не проставлена. Именно работа в типографии Иоганнеса Йансеониуса определила то занятие, которому он посвятит большую часть своей достаточно долгой жизни. Из этой мастерской выходили тома, которые потом продавались в Италии, Англии, Испании, Германии и даже Франции. На стене помещения, куда складывали ожидавшие отправки книги, — сразу за залом, где стояли печатные станки, подальше от комнатушки, в которой печатники склонялись над матрицами, а воздух был пропитан запахом свежей типографской краски и скудного заработка, — так вот, на стене склада висели списки произведений, запрещенных в этих странах, дабы избежать отсылки книг, могущих оказаться контрабандным товаром и нанести урон делу, чего старый Иоганнес никак не мог допустить.
Эти списки давали хорошую пищу для размышлений. Прекрасно понимая, какие преимущества сулят ему в будущем его происхождение и образование, Посланец решил следовать примеру тех бюргеров, с которыми познакомился в Амстердаме, — они давали деньги на занятия философией евреям, жившим в гетто, руководствуясь единственно стремлением улучшить этот мир, ничего не ожидая взамен, испытывая истинное наслаждение от сознания того, что все это стало возможным лишь благодаря их деньгам, их уму, их осмотрительности. Общество, в котором они жили, содрогнулось бы от ужаса, узнав об их тайном благоволении наукам, об их деятельности, способствующей разрушению тех самых ценностей, что, собственно, и составляли основу их высокого положения; но сами-то они, судя по всему, относились к этим ценностям весьма скептически. Подобные добродетели приходят к человеку с возрастом и формирующимся с годами скептицизмом, а Посланец повзрослел очень рано. Он использовал скептицизм как своего рода гигиену ума, позволявшую ему сохранять ясность и гибкость мысли. С тех пор он был твердо убежден, что единственная пропасть, разделяющая мудрецов и простых людей, — это язык, на котором они изъясняются; и он решил заполнить эту пропасть словами — множеством слов, миллионами слов, всеми теми словами, которые ему удастся собрать. И вскоре рядом со списками запрещенных книг появились подробные описания галисийских портов, через которые можно было провезти контрабандным путем крамольные книги, обруганные брошюры, сомнительные трактаты. Описание портов сопровождалось указанием на размер взятки, необходимой, чтобы завоевать снисходительность тех, кто отвечает за борьбу с контрабандой, наиболее удобные места продажи и имена подходящих для этого дела людей.
В течение какого-то времени все шло хорошо, но однажды, когда будущий Посланец пришел в типографию за очередной корректурой, ему преградила путь кучка испуганных работников: кто-то разгромил мастерскую, разбив все топором; говорили, что виной тому был испанский студент, которого и имени-то толком никто не знал. Посланец больше не вернулся в типографию, но его чудесная память сохранила названия, написанные на листах, что висели на стенах склада, имена капитанов судов, маршруты, которыми они следовали, а также имена тех, кто за деньги готов был пропустить контрабандные книги.