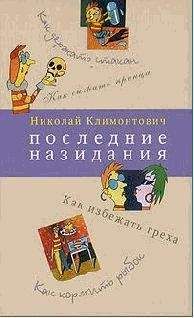Тихо открыл дверь, прокрался на лестничную площадку и припустил вниз по лестнице…
Во дворе, как сказано, была весна и дул ветер. Глаза слезились. Я впервые в жизни испытал упоительное чувство побега. Руки прочь от
Даманского. Я отчетливо осознал, что отныне побег станет неотвратим и постоянен, а сам бег, иногда замедляясь, неостановим. Сын человеческий не знает, где приклонить ему главу, неслось в голове.
Пахло будущей черемухой, но сады еще пустовали. Мисюсь, где ты?
Звали ее Ира, она напевала:
– Аскорбинки десять грамм,
А потом – Грауэрман.
Это она, конечно, храбрилась. Быть может, она в свои двадцать лет и не в первый раз залетела, наверняка не в первый, но все равно страшно. Мы же с Костей пребывали в легкой панике. Потому что на вопрос, который мы ей задавали, перетаптываясь и краснея, от кого, она, похохатывая, отвечала:
– Да от обоих!
Мы подружились с ним на втором курсе. До того он поступил на мехмат, делал успехи и подавал всяческие надежды, однако когда у него от рака умерла мать, он наконец-то потерял невинность. Это был тот самый Костя Каменец, у которого мы в детстве в школе списывали задания по арифметике, а потом поколачивали во дворе за ябедничество, и он в отместку швырял из окна нам на стол для пинг-понга гнилые сливы. Но тогда это был отличник-недомерок, вундеркинд и маменькин сынок, а теперь стал рослым красавцем с широкими плечами, с гордым профилем и прекрасным густым коком.
Общаться с дамами ему так понравилось, что в конце второго курса его, парня очень способного, отчислили-таки из университета за неуспеваемость. Мы дружили и соревновались, потому что у каждого было слишком много амбиций и ни один не хотел уступать. В течение года-двух виделись чуть ли не каждый день, до одури спорили, который из двух романов Воннегута лучше, он был за Колыбель для кошки, я настаивал на Бойне №5, предавались разврату на пару и однажды, подступив друг к другу с кулаками, договорились, что он, Костя, умнее, зато я – талантливее. И этот пакт держался, пока мы не разошлись – так же неожиданно, как когда-то сблизились.
Но это было потом. А тогда эту самую Иру я подцепил на Калининском все в том же кафе Ангара и привез к Косте в его большую квартиру -
свободную, поскольку его вдовец-отец, проректор Института стали и сплавов, часто оставался на ночь у своей секретарши. И, что было важно, всегда предупреждал по телефону, коли желал наведаться к себе домой сменить костюм и галстук. Впрочем, Костя, скорбя по матери, к своему фазеру относился без почтения, потому, кажется, что презирал за плебейское происхождение и воспитание, за трудовой путь от мартена в Кривом Роге до номенклатуры, считая при этом самого себя другой крови.
Девчонка была из рабочей окраинной семьи, нрава самого легкого и уже месяц как служила курьером в Министерстве легкой промышленности, это было в ее годы далеко не первое место службы. Министерство располагалось здесь же, обок с кафе, в котором она проводила вечера, пользуясь успехом, – у нее была замечательная грудь и светящееся радостью смекалистое личико. Однажды появившись у Кости, она стала бывать там чуть ли не через день, по ночам курсировала между нашими комнатами и нашими постелями и как-то за завтраком, еще не зная, что беременна, спела нам частушку:
– Наши девки – первый сорт,
Сами делают аборт,
Вилками, тарелками
И гвоздями мелкими…
Ее, если б чуть окультурить, можно было бы назвать красоткой. Когда она утром сидела за столом на кухне в мужской, мешком сидящей байковой ковбойке с закатанными рукавами, с торчащими из них худенькими запястьями в синих жилках с исподу, с мокрыми после душа мелким бесом вьющимися каштановыми волосами, с поджатой под белый голый зад светло-свекольной пяткой, с тоненьким прямым носиком и бордовыми губками, с быстрыми голубыми сияющими глазками, и болтала без устали – я любовался ею. Но мне бы и в голову не пришло в нее влюбиться, и не только из социальных обстоятельств – это тогда в расчет не принималось. Просто ее любовь, если можно так назвать непритязательные физические упражнения, которым она предавалась со всем азартом молодого здорового организма, была до поры лишь выражением приязни к миру, между мужчинами она не делала различий, называя их всех собирательно мальчики, а я, как юноша романтичный, не мог избавиться от поползновений придавать половым отношениям личностный оттенок. Кроме того, ею никак невозможно было помыкать, хотя она никогда не спорила и не дерзила, но, смеясь, увертывалась от каких-либо обязательств и всегда оказывалась не там, где ты ее оставил.
Впрочем, в большинстве случаев на нее можно было положиться, во всяком случае, до тех пор, пока, как игривой и нежной киске, ей было вольготно, весело и сытно. Даже Костя, будучи юношей избалованным, брезгливым и привередливым, ей как-то сразу доверился, причем настолько, что согласился принять ее в нашу компанию, о чем ни он, ни я до поры до времени ни разу не пожалели. Быть может, его забавляли ее натуральность и нетронутость никаким воспитанием и обучением, что он, по своему высоколобию, принимал за восхитительный и прихотливый цинизм, но это было лишь прекрасное и бездумное краткое цветение. Так или иначе, до поры до времени Ира стала нашим доверенным дружком. Она шлялась с нами по кабакам и помогала
снимать приглянувшихся девчонок, причем, когда нужно, изображала пассию Кости, а когда нужно – мою, по обстоятельствам. И так продолжалось вплоть до того дня, когда с очевидностью обнаружилось то, что обнаружилось, а она простудушно утешала нас: ну и что, залетела, с кем не бывает, у нас все девчонки – ковырялки…
Мы не очень понимали, что она хочет сказать, а Костя, как человек, не в том месте перебегавший через дорогу и угодивший под машину, искренне недоумевал, как же это могло случиться. Но я был опытнее, я лишь мудро заметил, что это должно было произойти рано или поздно, ведь никому из нас и в голову не приходило предохраняться.
Он все переспрашивал ее с надеждой, не ошиблась ли она и откуда она знает.
– Да у меня уж полтора месяца, – отвечала та бесшабашно, – гостей нету.
Мы и про гостей не понимали, но чувствовали, что дело наше совсем худо. Помню, Костя спрашивал меня трагическим шепотом беременели ли от тебя когда-нибудь женщины. Я ерничал в том духе, что если и да, то мне об этом неизвестно. От меня тоже нет, сказал Костя. И мы пришли в расстройство, а Костю так и вообще охватила легкая паника.
Конечно, мы искренне полагали, что все это дела женские, никак нас не касающиеся, но, с другой стороны, постепенно убеждались, что деваться нам некуда, поскольку было ясно – наша Ирочка по своему легкомыслию сама ничего предпринимать не собирается.
Более того, она как ни в чем не бывало, прихлебывая вермут, взяла моду шутить, мол, а вы меня оба замуж возьмите, в чем нам уже мерещился плохо завуалированный шантаж и чудилась неминучая беда.
Костя вскакивал из-за стола с затуманившимся глазом вспугнутого грача, с перекошенным от отвращения лицом и с приступом, казалось, подступавшей тошноты, – ведь это был тонкий и чувствительный мальчик, и номенклатурный папа хотел его женить на дочери второго секретаря обкома, курировавшего в столице высшее образование.
Поэтому Костя как раз в то время делал попытки учиться играть в теннис, а летом собирался в цэковский санаторий на Кавказ – знакомиться с династийной невестой, которую еще в глаза не видел.
– Нет, – говорил Костя, когда мы оставались вдвоем, – она так просто не отстанет. Что же делать, что же делать?..
Да и я, признаюсь, был напуган. Потому что было ясно, что пустить дело на самотек никак нельзя, иначе все неминуемо кончится скандалом. Нет, утопить ее, как поступил со своей подругой герой
Драйзера, нам в голову не приходило, мы просто-напросто решили заставить ее сделать аборт, что было, собственно, единственным возможным решением. Вот только мы ровно ничего не знали об этой операции.
– Да что ты, Костенька, волнуешься? – ответила она, когда он взял на себя бремя объявить ей об этом. – Вот допью и съем двести грамм петрушки. Нет, килограмм. Потом залезу в горячую ванну с горчицей, и все из меня выльется… – И, увидев наши удрученные лица: – Какие вы, мальчишки, смешные…
Но нам было не до смеха. Мы, мальчики городские, не доверяли ее народной рецептуре, здесь наверняка нужна была более надежная, чем огородная петрушка, более тонкая и редкая фармакопея. Костя позвонил бывшей сокурснице, которая тоже некогда побывала его наперсницей, та спросила – какой срок.
– Срок какой? – прошипел Костя, закрывая трубку рукой.
– Какой срок? – не понял я.
– Беременности срок.
– Полтора месяца, она сказала.
– Ага,- подсчитала Костина конфидентка, – шесть недель, значит. – И дала заветный адресок.
Нет, речь шла не о подпольном абортарии, в которых, по слухам, брали большие деньги, но о гомеопатической аптеке, располагавшейся, как оказалось, неподалеку, почти под носом, на Ленинском проспекте.