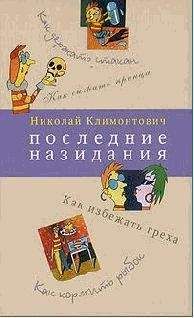Нет, речь шла не о подпольном абортарии, в которых, по слухам, брали большие деньги, но о гомеопатической аптеке, располагавшейся, как оказалось, неподалеку, почти под носом, на Ленинском проспекте.
Костя записал под диктовку названия магических семи травок, я и сегодня помню начало списка, волшебные слова туя, апис, пульсатила…
Помню, мы приехали в аптеку вдвоем, но долго не могли подойти к окошку. Наконец я с самым заправским видом решился, наклонился и спросил даму в белом халате, есть ли? Оказалось – есть. И недорого, в цену литра итальянского вермута из магазина Балатон, так примерно. И давали без рецепта.
– Схему знаете? – спросила меня дама насмешливо, или это мне так показалось. – Читайте инструкцию…
Инструкцию по применению мы с Костей выучили на зубок. Там было расписано, как глотать эти малюсенькие белые шарики – по три зараз из каждой из семи коробочек. И так неделю. Когда мы все это расписали Ирочке, она лишь пожала плечами: ну фигня это, конечно, лучше пропариться и ковырнуться… Но первую порцию шариков проглотила.
– Вот что, – сказала она, – мне девки говорили, что лучше все сразу, чтоб кровь быстрее бежала. Значит, так, стакан водки, ваши зернышки эти, петрушка – и в ванную.
Мы зря ее послушались, потому что после стакана водки с петрушкой и нашими травками в ванне ее долго и бурно рвало. Костя сказал, что теперь травок не хватит на полный курс, но я заверил его, что коли будет надо, то еще прикуплю… Стоит ли говорить, что на молодой цепкий девичий организм все эти средства не произвели ровно никакого впечатления. Разве что она стала бледная и осунулась и ее то и дело тошнило. Один раз, слабо улыбаясь, она сказала, выйдя из туалета, что вроде да, кровь показалась. Но вскоре сообщила, что это ей, наверное, почудилось. И мы убедились, что она водит нас за нос.
Время шло. Даже мы это понимали. Костя продал в букинистический материнское полное собрание сочинений Диккенса, вышло что-то около пятидесяти рублей, и мы решили отправить нашу Иру на операцию. Она, впрочем, кажется, совсем забыла о своей беременности. Оставалась беспечной, хоть и несколько заторможенной, попрыгуньей – во всяком случае, так казалось со стороны. Когда через всю ту же бывшую сокурсницу все было договорено и мы объявили Ирочке приговор, наша девочка ни словом не возразила, только побледнела, обычная озорная улыбка сошла с ее лица, но она не заплакала. Она только тревожно спросила, заглядывая в зеркало и обращаясь почему-то ко мне:
думаешь, я останусь… красивая? И здесь во мне тупо шевельнулась догадка, что это моя девочка и у нее в животе, возможно, уже шевелится мой ребенок. Но тут же и исчезла, как плеснувшая на песок волна, и след ее скоро высох… Однако отвезти ее в больницу пришлось именно мне, потому что Костя сказался больным, был и вправду бледен.
Я, не зная, что для нее сделать, купил ей с собой мандаринов и бутылку все того же вермута. От вермута она отказалась. У дверей больницы сказала пока. Ступила, не оборачиваясь, во вращающиеся двери, придерживая правой рукой спортивную сумку на левом плече… Она пообещала махнуть мне из окна, когда ее приведут в палату, но все окна больницы оставались закрыты, даже те, в которых горел свет.
Наверное, забыла, решил я, но не уходил до темноты и, сидя на лавочке в ближайшем сквере, выпил в одиночестве почти всю бутылку из горлышка…
Стоит ли говорить, что и Костя, и я скоро забыли о ней. Во всяком случае, будучи вместе, не вспоминали. И она Косте не звонила. Недели чрез две или три я сам, найдя ее телефон, которым, впрочем, ни разу не пользовался, позвонил все-таки ей домой. Трубку взял какой-то мужчина, наверное, отец, и, помолчав, просто и глухо сказал:
– Иры больше нет с нами. – И повесил трубку.
Я бросился звонить Косте, но его не было. И свет в его квартире не горел. Больше я не звонил ему никогда, решив, что ему незачем обо всем знать, потому что это я ее потерял. И он мне не звонил. А потом мы разъехались из нашего двора. Много позже я однажды все-таки наткнулся на его след. Как-то меня свели с одним издателем-осетином, который занялся этим бизнесом, прогорев, кажется, в ресторанном. Он ничего не понимал в своем новом деле, но хорошо считал деньги, поскольку книги более или менее продавались, особенно поваренные, а рукописи читала его жена Даша, застенчивая, с большими круглыми глазами в темных кругах, маленького росточка гимназистка лет сорока пяти и в стоптанных туфлях. Она-то неожиданно и передала мне привет от Кости Каменца, с которым, по ее словам, познакомилась, когда гуляла с собакой, поскольку они жили в одном доме. Значит, бедняга до седых волос все ублажал чужих немолодых жен, которые, быть может, коли муж оказывался в отъезде, варили ему суп, гладили рубашки и, чем черт не шутит, носовые платки.
Мне было некому рассказать об этой смерти, в которой я не мог себя не винить. Совсем некому. Я был сиротлив и одинок, как парус, белеющий в тумане, говоря словами Бестужева-Марлинского, болезненно возбужден и подозрительно весел. Душа дрожала. Шляясь по городу, я бормотал про себя слова прилипчивого романса:
Как упоительны в России вечера
И вальсы Шуберта, и хруст французской булки,
Любовь, шампанское, закаты, переулки,
Как упоительны в России вечера…
Вчера отец увез семейство за город, под Звенигород, открыв дачный сезон раньше запланированного, чтобы никто тебе не мешал заниматься. Он оставил мне денег на жизнь на краю своего письменного стола в кабинете, но, уезжая, по рассеянности запер кабинет на ключ. Естественно, я взломал замок, цапнул сумму и теперь был немножко пьян. Мне предстояло сдать плевый зачет по
историческому материализму и пересдать однажды уже проваленный экзамен по интегральному исчислению. С чем перейти на третий курс и отправиться с дружком юности Серегой Черным в Гурзуф бродяжничать, дышать морским ветром полной грудью, ночевать где придется – чаще всего на территории пионерского лагеря Артек – и нравиться незнакомым девочкам. Загвоздка была в том, что я не только не умел брать интегралы, но смутно представлял, что это такое. Нечто, обратное диффурам,- вот все, что мне было известно. За оставшиеся несколько дней я никак не смог бы освоить этот предмет, а потому вся моя жизнь была окончательно кончена.
Идя по Грецевец, я завернул в мой старинный дворик и нашел все родное и знакомое стоящим по местам. И старый, ржавый гараж, и хромоногую двухэтажную деревянную постройку буквой Г, где на втором этаже я некогда играл в фанты и смотрел чужой телевизор, и наш красного кирпича дом, благородно и сдержанно увитый темнолистым плющом. Того мальчугана, которым я был тогда и который выскакивал из подъезда вовсе не с тем, чтобы идти через дорогу в третий класс школы имени наркома Фрунзе, а с иными, хоть и неясными намерениями, я хорошо знал и помнил, он был мне когда-то симпатичен, но теперь казался несносен. Я озирался вокруг с волнением, будто прибыл после долгого отъезда, потому наверное, что в даже в ранней молодости десять дет, которые отделяли меня сейчас от моего детства, вполне могли сойти за целую прожитую жизнь…
Только что был мелкий скорый дождь, клумбы еще пахли свежей землей и листвой маргариток. Я вышел в калитку, которая так и не закрывалась все эти годы, увидел не сменившегося часового у стиля модерн начальственного особняка, похожего на пасхальный кекс с глазурью, прошел мимо неприступного голого здания Генерального штаба, оказался на бульваре, у стоящего Гоголя. Благоухал прибитой пылью нагретый с утра асфальт; все в тихой влажной зелени, стояли деревья; крашенные масляной краской в голубое изогнутые щелястые лавочки блестели мелкими слезами. Моя память со странной поспешностью, будто воруя, узнавала знакомое. Лет шесть назад вот здесь, на Арбатской, в кинотеатре Художественный давали Ленин в октябре, но при выходе в фойе удалось, как я натренировался еще раньше в кинотеатре Кадр, затаиться и спрятаться от билетерш с тем, чтобы попасть на следующий сеанс – до шестнадцати. Название на афише ничего не говорило, что-то шведское, по слухам – с этим самым, недаром вход воспрещен, но в свои тринадцать я вышел после этого сеанса на улицу на дрожащих ногах. Ни один фильм не сотрясал так все мое существо, как только что увиденный, даже Затмение того же времени. Это была
Земляничная поляна.
Я отправился дальше, ступил на следующий бульвар, андреевский Гоголь скромно сидел слева, спрятавшись в палисаднике. Остановился напротив
Домжура. Вспомнились давнишние здешние байки,- их мне рассказывал мой троюродный брат Шурка Щикачев, – из московских Щикачевых, – который всю жизнь провел в доме по соседству. Но к Щикачевым мне сейчас не хотелось заходить, потому что мне не хотелось заходить никуда.
Я вышел к Никитским Воротам. Отсюда для меня было только два пути: прямо, мимо Тимирязева и дальше, где кафе Лира, а через улицу -