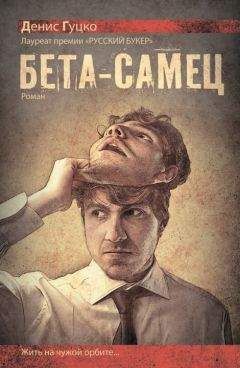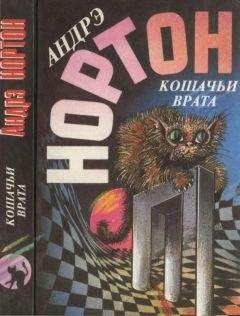Голосовал ли он на трассе попуткам, когда все-таки отправлялся в город? Или шагал по обочине к автобусной остановке, не глядя на проносящиеся мимо машины?
Участок обнесен рабицей, натянутой на вкопанные в землю обрезки труб.
Навесной замок. Старый, массивный. Лег в руку, как холодная металлическая лапа. Возвращался, брал увесистую лапу в свою ладонь. Чаще всего мрачный. Особенно если от Анны.
Кстати, обзавелся ли он другой женщиной? Женщинами?
Входил, не глядя на свой лоскут земли, и сразу в дом… огородное, дачное совсем не интересовало его… творческая, стало быть, личность. Походка быстрая, уверенная — так он шел навстречу вывернувшему из-за угла «Рендж Роверу», так проходил и эти двадцать шагов к крыльцу.
Топилин вставил ключ в замок.
А вот оно и дно. Располагайся.
Первым делом пришлось поработать в сарае. Вполне сойдет за гараж — наверное, так и строился, с перспективой. Машину с утра лучше загнать внутрь, чтобы не выдавала. Топилин раскидал по углам завалы: рейки, лопаты, бидоны, ржавые ведра, ящики и еще бог весть что, покрытое плесенью и утратившее узнаваемый вид. Заодно согрелся.
Хорошо было Сереже в девяностые, когда девственную советскую серость Любореченска раскрасили первые карнавалы рекламы. Сам Топилин тогда полной грудью вдыхал разогретый ацетон, клея самопальные кроссовки, — а вслед за этим по крохам выстраивал собственный кооператив. А Сережа, модный создатель билбордов и баннеров, уже смаковал вкуснейшие творческие деньги и говорил наседающим клиентам: «Нет, раньше никак. У меня очередь», и еще, строго так, говорил: «Я не прикоснусь к чужим эскизам. Я все делаю сам, с нуля». Стращал зарвавшееся начальство, что уволится, если снова станут давить. В плохую погоду брал до работы такси. Думал, так будет всегда. Но серость вернулась — небывалая, умеющая маскироваться под все цвета радуги. Серость эволюционировала и набрала силу. Всем вокруг стали заправлять серые квадратные люди, для которых хорошо все то, что серо и квадратно — ибо практично. И закончились кормившие Сережу карнавалы. Потому что серое и квадратное смастерит любой недоумок. За три рубля, между прочим. И лучше делай, как сказано. Здесь никого не держат.
Топилин встал на крыльце, прикурил. Не торопился входить — втиснуться в этот кирпичный пенал с видом на вертолетное поле.
Мог бы запросто оказаться на его месте, да. Закончил бы художественное училище, перед дипломом и сразу после — курсы компьютерной графики. И вперед, к вершинам билбордов.
Как здесь жить, однако? Без всего?
Какое-то время разглядывал свои первые следы на Сережиной тропинке.
«Ты как Филеас Фогг», — мелькнула в памяти ее фраза.
— Вовсе я не Филеас Фогг, Анечка, — пробурчал он. — Я, Анечка, Жюль Верн. Понятно? Вот увидишь.
Ладно — без всего. Дело привычки. Но ради чего? Приперся сюда ради чего?
Предстояло придумать — ради чего жить. Давненько этим не занимался.
Рассвело. По тугому осеннему воздуху покатились слитными колоннами жестяные бочки: на вертолетном поле, отделенном от Топилина несколькими километрами непаханой степи, начали прогревать моторы.
— Хорошо, что он здесь собаку не держал, — сказал Топилин, накрывая ладонью подмерзшего своего ежика. — Пришлось бы зверушкам привыкать друг к другу.
Достал телефон. Вытащил из телефона сим-карту, бросил себе под ноги. Посмотрел на нее — на кукольный ноготок, вцепившийся в подмерзшую слякоть. Вставил новую симку, позвонил маме.
— Слушаю.
— Это я, мам. Не разбудил?
— Нет, я проснулась.
— Это мой новый номер. Сохрани, пожалуйста.
— Ты сменил номер?
— Мам, меня не будет какое-то время на связи, ладно? Я тут в область уезжаю. Заброшенный хутор, телефон толком не ловит. Отдохнуть хочу. От всех подальше.
— Давно пора.
— У тебя с деньгами как?
— Нормально. С деньгами нормально.
— Буду названивать, но не регулярно.
Подумал, спросил как бы между прочим:
— Как там Зинаида?
Мама молчала.
— Алло, мам?
— Сынок, у тебя всё в порядке?
— Почему вдруг спрашиваешь?
— Потому что ты вдруг про Зину спросил. Впервые, кажется.
— Нормально у меня всё.
— Видимо, врешь. Ладно, лишь бы на пользу. А с Зиной все как обычно. Только простыла немного в гостях. На балкон выходила.
Стоило Топилину перешагнуть скрипучий порог, из каждого угла на него недоуменно уставились обитавшие там вещи — дачной сохранности, сомнительной чистоты. Филиал коммунального коридора.
Выключатель щелкал впустую. Включив подсветку в телефоне, все, что высовывалось из темноты навстречу открытому глазу, Топилин оглядел почтительно — и даже как будто головой покивал, как делал, знакомясь с важной персоной. На первом этаже, где под лестницу втиснулась кухня, его внимания удостоились:
…сковорода…
— А, сковорода! Очень приятно, надеюсь, сойдемся.
…кастрюля…
— Нужно будет замутить какой-нибудь совместный проект, не против? Обсудим!
…плита на газовом баллоне…
— Наслышан, давно мечтал о встрече.
…и далее: тарелки, полотенца…
— С остальными позже, если позволите. Дела, дела.
На втором этаже его встретили кровать, стол со стулом, простыня на спинке стула, чугунная «буржуйка», простенький металлический сейф, оказавшийся к тому же незапертым. В сейфе ноутбук. Поспешил включить.
Ура! Сережа клептофобией не страдал — ноутбук загрузился без пароля.
На рабочем столе картина Аверкампа Хендрика «Зимний пейзаж с катаниями на льду»: крошечные голландские человечки выписывают коньками по обледеневшей площади… Пристроил ноутбук на кровать, на расстеленный спальный мешок. Сел рядом, выдавив из кровати оглушительный скрип. Поторопился Сережа, выставив на ноутбуке зимнюю заставку.
Черные груди сопок. Гладкие, с приплюснутыми вершинами. Груди со спрятанными сосками. Теперь я знаю, что бывают такие. Старшина Бану завел в военном городке женщину с такой грудью. Тоня — новенькая продавщица в военторге. Каждый день Бану рассказывает о ней в столовой, подкатывая глаза и причмокивая. В ключевых местах подкрепляет рассказ жестами — вроде тех, какими пользуются рыбаки, описывая чемпионскую рыбалку. «И тут она разворачивается. У-у-у-у, как-кой вид. Стоп, говорю, сто-оп. Или экстренная посадка случится». Азартно копает ложкой в гороховой каше. Откусывает половину хлебного ломтя, вталкивает большим пальцем. Приближаясь к кульминации, немного понижает голос. Но говорит еще четче, слышно каждое слово. С ним за столом его компания — прапорщики и дембеля. Слушают, замерев, с напряженными полуулыбками. Перебирают под столом ногами, головы склонили в напряженном внимании. Диверсанты в засаде. Погодите, диверсанты в засаде, Бану еще не кончил. «И тут наши сосочки выползааают. Такие махонькие. Зубами так — хвать, а ну, иди сюда! А второй? Вылазь-ка, давай, давай, иди ко мне, я тебя съе-е-ем».
Я сижу на бордюре за полосой препятствий. Отошел подальше от казарм. Этот ночной пикантный ракурс, этот грудастый ландшафт только и спасает меня от свальной дневной тоски, которой — по уставу и без — на огороженном куске солончаковой степи самозабвенно предаются полторы тысячи молодых мужчин цвета хаки. Днем здесь натоптано. Тяжелые подошвы звонко терзают плац, утюжат тактическое поле. Днем здесь солдатские шумные сапоги, грубые солдатские дела. Ночью весь этот вздор прекращается. Через час после отбоя, когда вместе с фонарями гаснут цвета и ночь застывает мозаикой силуэтов, здешнее пространство раскрывается по-настоящему. Нужно лишь повернуться лицом к сопкам. И сразу видишь, какое это женское пространство. Плавное. Текучее. Спелая плоть развалилась в бархатистой духоте. Над женщиной широко развешено парчовое лунное полотнище. Улыбаясь, протягиваю руку, пробегаю пальцем между черным и парчовым. Теперь — спасибо старшине Бану — я знаю, что бывают груди с сосками, которые нужно выманивать. Терпеливо, как глупенького зверька из норки.
— Вылазь давай, вылазь.
Реальность изменилась на ощупь, что вызывало у Топилина стойкое тактильное любопытство. Как женщина, с которой не был лет десять. Инвентаризация перемен поначалу занимала его всерьез и всецело. Всюду нужно было пропутешествовать ладонью, запустить любопытные пальцы: как здесь, а здесь теперь как?
Стол на кухне покрыт мягкой клеенкой, которая, если навалиться, прилипает к локтям и, отклеиваясь, издает еле слышный чмокающий звук. Недопитый чай, оставленный слишком близко к щелястому окну, к утру горбатится в кружке ржавым обрубком сосульки — его интересно растапливать кончиком языка и глотать добытую горькую влагу.
В первый день ноября сорвался мокрый снег, полежал немного и растаял. Заметил, что мокнет стена: вода не стекает по забитому водостоку. Полез вычищать. В мятом жестяном желобе — залежи павшей листвы. Выгребал ее пригоршней вместе с льдинками и сбрасывал вниз. Листья падали отвесно, без выкрутасов. Стоя на хлипкой стремянке, переглянулся по-новому с притихшим прозрачным садом, с линялым простором над ветками. Будто, утопив пальцы в прохладной склизкой листве, переступил интимную черту.