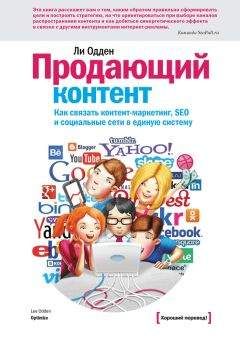«Сталин… Сталин…», — рассеянно размышлял капитан, выходя на главную городскую площадь.
«Сталина нет на вас всех, мрази», — ожесточённо сформулировал он в мозгу. Хотя кто эти «все» и кто именно «мрази» он не мог толком объяснить даже себе.
Площадь выглядела неприветливо. Серое, пасмурное небо словно отражалось в сером асфальте. И административные здание, расположенные друг напротив друга по краям площади тоже были серыми. Возле них на боевых постах стояли вооружённые автоматами милиционеры. Рослые, горбоносые, они внимательно прощупали своими диковатыми карими глазами прошедшего мимо них военного и снова утопили лица в поднятые воротники бушлатов.
«Ментов этих тут уже целая армия собралась. На каждом шагу они по всему городу. А толку — ноль. Как стреляли раньше в нас по ночам, так и продолжают стрелять», — капитан раздражённо сплюнул.
Миновав площадь, Лебедев свернул на улицу, ведущую к морю. Она спускалась вниз довольно круто, и ему пришлось сбегать по нескольким лестницам. У перекрёстка остановился, оглядел вывеску булочной и, толкнув дверь рукой, вошёл внутрь. Но тут же вышел обратно, вспомнив, что все деньги отдал за книгу. В кармане у него сиротливо лежала монетка в один рубль. Постоял перед входом, зло чертыхаясь сквозь зубы. Потом повернулся и пошёл дальше.
Капитан прошёл всю улицу до конца и поднялся на мост. Внизу лежали железнодорожные пути. Лебедев остановился вдруг на середине моста, подошёл к перилам и, облокотившись, опустил голову вниз. Прямо под ним тускло поблёскивали отполированные рельсы.
«Отполированные… Поезда, значит, ходят ещё. Отсюда на юг, в сторону Баку, что-то ещё ползает время от времени. А вот на север ветки, по сути, нет. То есть, она есть, конечно. Но ведёт в Чечню, в Гудермес. Туда с 94-го ни один состав не ходил. Связь с Россией теперь по воздуху, в основном, да по морю», — подумал капитан.
Подняв голову, он взглянул в другую сторону. Туда, где по видневшимся над приземистыми постройками высоким грузовым кранам угадывался морской порт.
«Там порт, кажется. Хотя, мне говорили, что в этом городе и порт, и вокзал, и пляж — всё рядом».
Он спустился с моста и вышел на пустынный городской пляж. Песок под ногами был влажный и рыхлый. Капитан вспомнил, что вчера моросил мелкий дождь. Такие дожди зимой могли моросить здесь неделями. Иногда казалось, что вовсе уже никакого дождя нет, а просто маленькие холодные капельки воды висят в сыром, пропитанном влагой воздухе, тихонько подрагивая.
Лебедев подошёл к воде. Погода стояла тихая, и прибоя почти не было. Впрочем, настоящего штормового прибоя здесь не бывало никогда, так как пляж был защищён со стороны порта волноломами, ограждающими его от лютых северных ветров.
Он присел на корточки и потрогал воду рукой. В нос бил резкий морской запах — запах мокрого песка, солёной воды и водорослей. Посмотрел на горизонт. Тот терялся в низко висящей серовато-сиреневой мути облаков. На мелкой зыби, метрах в тридцати от берега, покачивались чайки. Белые, крупные, со слегка загнутыми вниз кончиками хищных желтоватых клювов.
Капитан поднялся на ноги. Взял в руки маленький плоский камешек и пустил «лягушку». Камешек, скользнув по воде плоским боком, отскочил от неё и полетел дальше. «Лягушка» прошлёпала ещё раза два, прежде чем пойти ко дну. Вспомнив, что точно также на военном жаргоне называются и противопехотные мины, Лебедев улыбнулся.
Он медленно побрёл по песку, вдоль самой кромки воды. Шёл медленно, не торопясь, задумчиво сунув руки в карманы бушлата. Мысли в его голове скреблись мрачные: «Чечня, мать вашу! Даже поезда теперь не ходят. На мотострелковую бригаду в Буйнакске месяц назад нападение было. Отряд Хаттаба танки у них хотел угнать. Прямо с полигона. И ведь захватили же чехи полигон. Полчаса там хозяйничали, но ни одну машину завести так и не смогли. Потом сожгли несколько танков и БТРов и ушли обратно в горы, пока командование бригады, прочухавшись, выбить их оттуда пыталось. А, захвати они танки, понятно, куда бы Хаттаб двинул. Сюда — в Город Ветров. Пёрла бы на город чеченская танковая колонна под зелёными знамёнами. Местные менты, ясен пень, разбежались бы все. А кое-кто и на сторону боевиков перешёл бы. Когда бы чехи только брали город, нам — военному гарнизону, частям Внутренних войск, пограничникам, морской пехоте и морякам — из Москвы приказ бы пришёл наистрожайший — ни во что не вмешиваться, на провокации не поддаваться. За каждую выпущенную в сторону противника полю, мол, перед трибуналом отвечать будете. А вот когда город оказался бы уже полностью захвачен, и чехи в нём закрепились, то пришёл бы другой приказ — немедленно освободить Город Ветров от боевиков и восстановить конституционный порядок. И началось бы…..Второй Грозный, вашу мать».
Капитан остановился и сел на скамейку. Сгорбившись, подперев подбородок рукой, он меланхолично смотрел на море и на чаек, которые клевали выброшенный волнами раздувшийся труп осетра метрах в пятидесяти от него.
«Лебедь, ублюдок, — продолжал он про себя. — Тварь поганая! А всё туда же. Миротворец… Войну остановил… Какой, на хрен, остановил! На Буйнакск нападение — это что, не война? Или когда погранцам жилой дом в Каспийске взорвали — тоже не война? Продал всех, сука! Точно ведь говорили, что ему в вертолёт в Хасавюрте чехи два чемодана, набитых долларами, принесли. От Масхадова личный презент, мать его»!
Невесёлые мысли капитана текли сплошным потоком. Ругательства перемежались с воспоминаниями, злоба — с бессилием. Он ковырял песок носком берца и чувствовал себя слабым и одиноким.
«Вот и мы, бессильные, лежим, как та дохлая рыбина на берегу. Так посмотреть — живые, а на деле — совсем как мёртвые. Вроде и понимаем всё, а сделать ничего не можем. В сердцах — пустота, в душах — безволие. И клюют нас все, кому не лень».
Над значением слова «мы» он не задумывался. Оно олицетворяло для него практически всё: страну, расклёванную и кровоточащую; армию, оплёванную и полуживую; родителей, умерших в полной нищете в начале 90-х; жену с вечно затравленным выражением глаз, оставшуюся жить в родительской квартире.
Лебедев шумно вздохнул и прислонился к железной стойке навеса, упёршись в неё своим крепким, коротко остриженным затылком.
И вспомнился ему 91-й год. Он тогда — простой советский курсант — учился в городе Ленинграде, который донашивал это название последние месяцы.
Был конец августа. Только что задохнулся в маразматических конвульсиях запоздалый, почти бессмысленный путч, но по улицам ещё носились многотысячные толпы, радостные и возбуждённые. Размахивали триколорами и горланили что есть мочи: «Ельцин! Ельцин»! Тёплым воскресным вечером, бесцельно прошатавшись по городу весь свой выходной день, вышел он на Дворцовую площадь. Усталый, нетрезвый, хмельной.
На ней шёл концерт. Возле железных узорчатых ворот Зимнего дворца была устроена наспех сколоченная летняя сцена, которую со всех сторон разукрасили бело-сине-красными флагами. Какая-то группа, враз сделавшаяся популярной в эти дни, пела с неё что-то жутко антисоветское и от того сверхмодное: то ли про Сталина, то ли про репрессии и ГУЛАГ — Лебедев толком не запомнил. Бородатый и патлатый вокалист, с какой-то стати напялив на себя офицерскую гимнастёрку времён Первой мировой войны, закатывая глаза, надрывался в немного хрипящий микрофон. На его широкой груди болтались бутафорские «Георгии». Полупьяная толпа, большинство в которой составляла молодёжь, нестройно подпевала, ритмично дёргаясь в такт музыке. Над ней реяли триколоры. Какие-то девицы, взобравшись на плечи к своим парням, размахивали над головами сорванными с себя футболками и громко визжали.
Лебедев, недолго поглядев на всё это издали, подошёл к сцене поближе, сам не зная зачем. Он был не в форме, а в обычной, гражданской одежде, и на него не обратили никакого внимания.
Он мало что понимал в том, что творилось вокруг, ибо плохо разбирался в политике. Одни говорили одно, другие — другое, и во всей этой круговерти он не знал, не чувствовал, не мог понять, где ложь, а где — правда. Например, преподаватель тактики в его училище был убеждённым коммунистом. Всегда подчёркивал, что гордиться тем, что на долю страны выпала величайшая историческая миссия — первой во всё мире встать на путь социализма. А ещё он восхищался Сталиным и клял Горбачёва с Ельциным. А вот отец одного из его товарищей-курсантов жутко, с пеной у рта ненавидел всё советское, красное. Истерично, сбиваясь на визг, кричал о репрессиях, о десятках миллионов расстрелянных, раскулаченных и замученных в лагерях. И совал всем самизда-товские книги Солженицына, Бунина и Шаламова. Лебедев не знал, кому верить.
Во всём мутном водовороте событий он ощущал со всей ясностью одно: привычный, близкий и родной ему с детства мир умер. Рухнул разом и ушёл в небытие, недолго побившись в конвульсиях. И так как было раньше, как было всегда, больше уже никогда не будет. В тот вечер Лебедев чувствовал нутром, что прощается с этим миром. Он и сам не знал, каким он был: плохим или хорошим. И даже не ломал голову над этим. Просто он был. А вот что будет дальше, после этих дней всеобщей исступлённой эйфории — он не знал.