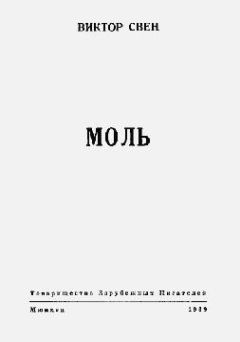— С кем только я не спала, — смеялась Сонька. — По заданию и без… Спала, может, и с таким, что похуже тебя! Видишь, что за я? А вот о любви… один разок в своей распутной жизни услышала я такое слово. И знаешь от кого?
— Ну? — невольно спросил Прошков.
— От Вольского…
Об этом не говорил в своих донесениях Прошков. Молчал и о том, как он просто и по-человечески просил Соньку бросить «дело» и оторваться от того мира, в котором и он и она жили.
Что это? Любовь? Что-то другое и непонятное. У таких, как он и Сонька — любви не может быть. Он мужественно признал, что грязнее Соньки — он сам.
В таком состоянии, пусть и без всякой пользы для себя, ему и захотелось сразу же после посещения Мохова увидеть Соньку, сказать всё без утайки, предупредить и помочь ей исчезнуть.
Прошков отлично понимал, под какую угрозу он ставит самого себя. Он даже вспомнил Мохова: «Из чека уходят — в подвал..»
Невольно взглянув на решетки подвала одного из домов, мимо которых он проходил, Прошков вдруг заторопился, вскочил в трамвай, потом брел по переулкам и, запыхавшись, остановился, желая представить себе встречу с Сонькой. С ней он уже не виделся два дня.
По узкой лестнице он шагал медленно. Подойдя к двери, тихо, условным стуком, щелкнул у замочной скважины.
С той стороны кто-то прислушивался. Прошков опять стукнул. Дверь отворилась.
— Ты чего зачастил? — недовольно спросила Сонька. — Дела у тебя другого нет?
— Соня. Давай хорошо поговорим. Потому что «дело» мое… да это о тебе мысль.
— Слышала. Ну, заходи…
Вслед за Сонькой, Прошков вошел в большую комнату. Пахло тут тем страшным духом, какой остается от самогонки, шампанского, махорки и дыма отличных контрабандных сигарет.
На столе беспорядочной кучей громоздились стаканы, на тарелках и около них — валялись остатки какой-то закуски. В углу комнаты были свалены пустые бутылки и разный мусор.
Ничто не удивило Прошкова. Но стоило ему заметить среди мусора растоптанный кусок хлеба, как-то сразу пропали все, недавно такие еще хорошие слова и мысли, и уже захотелось даже не Соньку, а самого себя облить грязью.
— Погуляли, значит, — прохрипел Прошков. — Договорились?
— А ты чего влазишь в подробности? Детали тебе нужны?
Понимая, что ему уже не спастись от самого себя, Прошков криво усмехнулся.
— Ты чего зубы скалишь? Любопытно? — спросила Сонька.
— Любопытно, — вяло, но как-то серьезно сказал Прошков. — Я, понимаешь, с детства любопытный. Я уже на десятом годку своей жизни распознал, что ножом режут не только хлеб насущный.
— Кто тебя такому научил? — Сонька в недоумении подняла брови. — Кто тебя в такие люди вывел?
— Да так. Был один. Весьма сознательный товарищ.
— Об этом я уже слышала, — махнула рукой Сонька и зевнула. — Спать хочется. Ты иди к себе домой. Больше приходить не надо. Не показывайся здесь. Я, знаешь вчера замуж вышла. За Мишку. Чувствуешь: за Мишку Большого. Вот тут и веселье справляли.
Прошков отшатнулся, но овладел собой и спокойно сказал:
— Веселье? А может — похороны?
Сонька рассмеялась:
— А что ж. Мишка такой. Он и похоронить может. Она продолжала смеяться и после того, когда за Прошковым захлопнулась дверь. Смеялась и кинувшись в постель, смеялась, грызя зубами подушку.
Проснулась она только под утро, когда вернулся Мишка Большой.
— Поехали, — сказал он.
— Поехали? — спросила Сонька.
— Да ты что? Забыла? — удивился Мишка Большой. — Оглядываться уже поздно.
Она нервно засмеялась.
— Ты чего?
— Вчера… тут… с разговором был Прошков.
— Знаю, — спокойно сказал Мишка Большой. — О чем говорил — тоже знаю. Сам он мне всё выложил. Ему… и ему оглядываться уже поздно.
Первым, кому стало известно о бесследном исчезновении Прошкова, был Мохов. Когда эти сведения подтвердились, Мохов встревожился. Не потому, что Прошков ему был дорог и близок. Нет. Вспомнив, что Прошков работал только по его заданиям, Мохов вытер выступивший на лбу пот. Пот был холодный. Мохов трусливо поежился, представив себе сложную чекистскую машину.
На любого, вырвавшегося из этой машины агента, смотрели как на предателя, врага, изменника, способного поднять руку на власть, провалить секретную сеть, переметнуться за границу. Таких случаев было предостаточно.
А тут — Прошков. Мохов, конечно, поднял на ноги всех, подчиненных ему сексотов, всю тайную агентуру. Но напасть на след Прошкова не удалось. Все убийства, совершенные в эти два дня, были изучены и среди трупов не оказалось Прошкова. В этом-то и была опасность. Найдись где-либо мертвый Прошков, списали бы его с «денежного довольствия», вычеркнули бы из списков работающих «по заданиям», ведшееся им наблюдение перепоручили бы другому — и концы в воду. Не надо было бы волноваться.
Но так не произошло. Об этом подумал Мохов. Выхода не было: надо доложить. Кому? Да конечно же Решкову.
Телефонный разговор был короткий.
— Ты говоришь, — спокойно сказал Решков, — новость? Кой-что мне уже известно. Приезжай немедленно!
Попав в Главное управление, Мохов удивился, что Решков не принял его сразу. Пришлось сидеть и ждать среди самых обыкновенных сотрудников. Такого раньше не случалось. Когда же к нему подошел дежурный оперуполномоченный и без слов пальцем поманил идти за собой, Мохов это воспринял как признак беды.
Решков сидел на краю громадного письменного стола, опустив ноги на кожаное кресло.
— Что у тебя там опять случилось?
От этого «опять» Мохов чуть не задохнулся.
— Вон там, на столике, графин с водой, — насмешливо кинул Решков.
Мохов, как наказанный ученик, двинулся к графину. Вода была теплой и противной. Глотая ее, он срывающимся голосом рассказывал о «происшествии».
— И это всё? — пренебрежительно спросил Решков.
— Всё, товарищ Решков.
— Не удалось обнаружить, куда подался Прошков после того посещения Соньки? Никаких следов?
— Все меры, товарищ Решков, были.
— Понятно! Всё было предпринято, всё предусмотрено и — ничего. Так?
— Так, товарищ Решков, — ответил Мохов, судорожно потирая руки.
Решков придвинул к себе телефон и кому-то что-то приказал. Потом, не снимая руки с телефона, принялся рассматривать Мохова.
Мохов взгляда не выдержал, опустил голову и только тут заметил, что он всё время стоит навытяжку, хотя рядом был стул.
В этот момент вошел дежурный оперуполномоченный и передал Решкову какую-то бумагу.
— Да ты присаживайсь, — с явной издевкой сказал Решков, когда за дежурным закрылась дверь. — Устал, небось, от работы. От всех принятых мер, — и покосившись на уже севшего Мохова, добавил: — Ну вот, меры были приняты, а результатов — никаких?
Мохов хотел что-то ответить, но Решков махнул рукой:
— Погоди, дай дочитать.
Читал он до того томительно медленно, что Мохов не выдержал и спросил:
— Это — об том?
— Об том, — Решков шевельнул бумажкой. — Об том самом. У тебя — никаких результатов, хоть тебе доверена первая линия наблюдения. Здесь — по второй линии — довольно интересная информация. Познакомить с ней?
Словно желая подчеркнуть доверие к Мохову, Решков пересел с края стола на стул и склонился над листком исписанной бумаги. Это Мохов воспринял, как разрешение прочитать «информацию» и придвинулся к Решкову.
— Так вот, — сказал Решков, опять устраиваясь на краю стола, — по нашей информации всё выглядит так. Прошков от Соньки-Золотухи выскочил, как ошпаренный. Ясно: любовь — не картошка, не выбросишь за окошко. А в полночь попал в шалман. Да ты об этом месте должен знать! Вот Прошков сидит за столиком. Вроде бы ждет кого. Ну… ну дальше я тебе прочитаю из информации. Слушай: «А к Прошкову присоседился такой грузный собой мужчина. Так нахально присел, что все в кабаке затихли, догадались, что может случиться происшествие. Даже с пистолетом или финкой. А пока что мужчина оскалил зубы и требует от Прошкова, закажи, говорит, для знакомства и мне поллитру. Потому другую дозу как-то стыдно пить. Душа моя, говорит мужчина, меньше поллитры не принимает. Она у меня культурная. А сам я, говорит мужчина, по фамилии Ступица…»
Решков опять пересел со стола на стул.
— Да это же чистый след, товарищ Решков! — воскликнул Мохов.
— Чистый, — согласился Решков. — Только по второй линии, с опозданием часов на двадцать. Без опоздания должна была сработать твоя, товарищ Мохов, первая линия.
— Как же теперь быть, товарищ Решков?
— Ну… Об этом я подумаю. А пока что… для пользы дела… послушай, что дальше в информации. После того, как объявился Ступица. Так вот, читаю: «Прошков посмотрел на Ступицу, и говорит, вот ты каков с виду. А я и не знал, хоть и слышал о тебе порядочно. А тут Ступица и кричит, о чем таком слышал? Выкладывай! А Прошков отвернулся от проспиртованной морды Ступицы, позвал хозяина кабака и говорит, отпусти ему, то есть Ступице, поллитра. А Ступица хвалит Прошкова, говорит, большой фарт у тебя. Без денег, говорит, а как в банке кредитуешься. В счет какого бенефиса? — спрашивает Ступица, а Прошков велит ему пить. Ступица, конечно, выпил, погладил шею, крякнул, и спрашивает у Прошкова, что такое, говорит, ты слышал обо мне? Прошков в ту минуту смотрел в черное, запотевшее окно, вроде пробуя угадать, что там такое ночью творится за стеклом. А Ступица не отстает, толкает Прошкова в бок, выкладывай, требует, всё обо мне, если не боишься. Тут Прошков оторвался от окна, посмотрел на Ступицу и совсем громко, так, чтобы все слышали, говорит, чего мне, говорит, тебя бояться? Страх перед тобой, думаешь, что слава за тобой идет? У тебя была слава, говорит Прошков Ступице, бесстрашный ты был, верно, а теперь… теперь ты сам себя боишься и от страха спился, не сегодня, так завтра до конца допьешься и сам себе верёвку на шею закинешь. В кабаке, понятно, все затаились. Потому должно было начаться самое интересное, да только тут открылась дверь и вошел Мишка Большой, этот новый хахаль Соньки, что-то такое шепнул Прошкову, после чего с ним, то есть с Прошковым, вышел на улицу, а там была ночь, и стоял извозчик, и они уехали. А что дальше было, не знаю. Потому мне нельзя было показывать вида, что меня это чересчур касается. К тому же у меня имелось другое задание…»