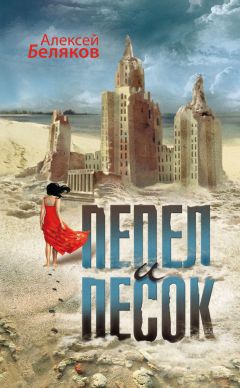— Какая я стала тяжелая… Как зачем, юноша? Во-первых, это весело. Во-вторых, с вашей внешностью и хромотой это лучший способ выжить. Я вас не обидела?
— Нет.
— Хорошо, — она опускает затылок на валик дивана. — Маленькие мужчины очень обидчивы… Вы слышите меня? Будьте честным драматургом до конца. Придумывайте детали своей биографии, чем более неправдоподобные, тем легче вам поверят. И ликвидируйте истинные.
— Вы знаете, Ами, Хташа беременна. Как мне ликвидировать эту деталь биографии?
— А теперь на красную дорожку ступает знаменитый сценарист Марк Энде со своей прелестной спутницей! Внимание! Именно на нашем фестивале Марк Энде согласился появится на публике — впервые!
Над чугунными ограждениями протягиваются руки-ножницы, готовые отрезать от меня самые сочные куски, визжат хмельные ведьмы-блондинки с Уральских гор и тюменских болот, их соски прожигают белые блузки, чтоб напоить меня щедро березовым соком и ромом из банки. Вспышки похотливых камер разбивают вдребезги сетчатку моих глаз, осколки сыплются под подошвы идущих следом мерзавцев. Еще шаг, левой-правой, левой-правой. Левая, будь молодцом.
— А ты почти не хромаешь, — шепчет мне Румина, ставя бордовый штамп на ушной раковине. — Молодец!
— Пойдем быстрее, мне уже надоело.
— Нельзя. Мы собьем весь ритм. И улыбайся. Ой, как я счастлива!
Румина держит меня под руку, и я чувствую ее дрожь, которая от голых плеч низвергается к каблукам-громоотводам, уходит под землю, вызывая панику у местных сейсмологов.
— Ну сделай что-нибудь, — Румина сжимает мое запястье. — Неужели ты так просто уйдешь?
Мы поднимаемся по ступенькам, навстречу гирляндам, брильянтам, перьям, маскам и саксофонам. Дорожка окончена, la strada finita. Все кончилось быстро. Как проклинала б меня моя милая Ами: жалкий лимитчик, трус таганрогский!
И тогда у самых колонн я оборачиваюсь и у подножия задрипанного парфенона вижу народ. Он смешной и поганый, мой народ ясноглазый. Ненавижу, всех утопить. Но я подарю ему один трюк благородного Марка, пусть мой народ заснет сегодня с улыбкой на изъеденных пивной пеной губах. Пусть сдохнет в блаженстве от грядущей эпидемии инфаркта и покоится в братской могиле под обломками ракеты «Восток».
— Румина?
— Что, дорогой? — Она устремляется грудью ко мне, как вырезанная из плексигласа фигура на носу свадебной бригантины. — Что?
— Потанцуем — в последний раз? Последнее танго в Париже…
— Как?
Я беру ее потную ладонь и туго стиснутую талию. Опрокидываю навзничь, едва не роняя — рыжие волосы Румины касаются ковра, усыпанного песком и конфетти.
— Ах! — Румина хрустит костями. — Ох!
«Да здравствует Марк! — откликаются верные сволочи. — Крови и зрелищ!»
— Вот молодец! — Румина распрямляется, облизывая помаду, прижимается ко мне, массируя натренированные груди. — Как я счастлива!
И я наконец улыбаюсь, да так, что сердца моих зрительниц, шалав с застывшими челками, превращаются в силиконовые флаконы, наполненные топливом № 5. Дайте патент за формулу дикой любви — и побыстрее.
А тебе так и надо, глупая Катуар, черноперая вздорная птица. Стоишь сейчас среди охрипших от эйфории блондинок, смотришь на нас с Руминой и думаешь…
— Марк, проходите, пожалуйста внутрь, — меня трогают за священное плечо. — За вами еще идут.
— Подождут. У меня триумф воли.
А теперь — полная тишина. Резко прекратить рев и стоны!
Чемодан лежит посреди номера, крышка отброшена, два стальных зуба-замка ждут указаний стоматолога. Лягарп с римским комфортом прилег на подушку. Значит, Катуар была здесь, переоделась… Где ее маленькая красная сумка по прозвищу клатч, которую мы купили за день до отъезда? В ней были билеты и наши документы. Сумка на тумбочке. Я беру ее в руки и глажу. Можно открыть, достать паспорт Катуар и узнать, как на самом деле зовут эту песочную гордячку.
Первая буква имени точно «А». Вторая — я запускаю руку в сумочку — вторая будет…
В дверь скребется ночная птица. Пришла. Прилетела!
Бросаю алую сумку-плутовку на постель.
Раз, два, три, четыре, пять… Теперь тебе несдобровать. Ты стала послушной, хороший симптом, но, собственно, я сейчас не о том.
Распахиваю дверь и на меня набрасываются яростные груди Румины:
— Куда ты ушел? Все тебя ищут!
— Устал.
— Мне приходится вместо тебя интервью давать! Пойдем быстрей!
— Нет, все, я не могу. Еще и колокол начал раскачиваться…
— Какой колокол? Пойдем. Там так весело, мне двое уже предложение сделали.
— Срочно соглашайся. Но выбирай того, кто повыше ростом.
— Пойдем, я тебе говорю. Что за человек?
Румина ногтями сцепляет манжет моей рубашки, уже декорированный двумя желтыми пятнами, и тянет, как утка-хищница. Вырываю руку из клюва:
— Я не пойду.
— Дурачок… Хочешь я сделаю прямо сейчас то, о чем ты всю жизнь мечтал? А потом мы пойдем веселиться до утра.
Румина опускается на колени, подол ее белого платья распускается на полу. Я толкаю Румину в плечо.
— Уйди.
— Нет, я сделаю это! — Румина хохочет, икает, доносится эхо шампанского. — Я сегодня переполнена чувствами!
Я отступаю назад, и Румина, протянувшая руки к моим бедрам, теряет цель и падает локтями на шершавый палас. В положении кентаврихи она остается, глядит на меня снизу вверх:
— Испортил мне настроение. Ладно, отдохну так немного и пойду, отдамся первому встречному режиссеру. Слушай, а почему ты с Хташей развелся?
Крупно: унылое лицо гипсового Геродота. Он смотрит на Хташу и на меня. Сквозь закрытые кухонные двери доносится плач младенца и утешительное завывание Розы.
ХТАША
Что тебе еще надо?
Я Покоя.
ХТАША У тебя полный покой, ты делаешь все, что хочешь. Обещал папе поступить в аспирантуру, вместо этого пишешь сценарий, и никто тебе слова не говорит, только все помогают.
Я Слишком много помощников.
ХТАША Я плохая жена?
Я Не знаю. Мне не с чем сравнивать. Но этот постоянный крик…
ХТАША Это твоя дочь.
Я Да, я помню. Но мне надо закончить сценарий.
ХТАША Нам всем уехать?
Я Наверное, надо уехать мне.
ХТАША (Смеясь, словно кашляя) Куда?
Я На другую квартиру.
ХТАША Какую? У тебя ничего нет в этом городе. Ты голодранец!
Я Мне дадут аванс за Бенкендорфа, сниму что-нибудь.
ХТАША Весь твой аванс уйдет на один месяц оплаты. Ты знаешь цены в Москве? На что ты будешь жить? Ты у нас катаешься как сыр в масле.
Я (гляда в слепые глаза Геродота) Я заберу лишь Лягарпа, Брунгильду и Бенки. Больше мне ничего не надо.
ХТАША Как красиво! Благородный художник. А вещи? Все барахло, что я тебе покупала, — оставишь?
Я Оставлю.
ХТАША Ты не выживешь в Москве, ты сдохнешь! Твои сценарии никому не нужны. Какие-то прохиндеи пообещали тебе пять рублей, и ты счастлив, стучишь по ночам на своей железяке. Мы это терпим: ах, у нас тут творец, демиург.
Я Хташа, прекрати этот гур-гур.
Темные круги под глазами Хташи разбухают, завариваются отравленным чаем. Она нависает надо мной, скрежещет драконьими зубами.
ХТАША Гур-гур? Выучил новое выражение? Причастился к высокому? Два раза выпил водки с самим Йоргеном? А рассказать тебе, как ты оказался в МГУ? Рассказать?
Я (растерянно) Я знаю, как. Ты о чем?
ХТАША Папа слишком интеллигентен, поэтому никогда не позволял себе об этом вспоминать. И я молчала, чтобы ты не комплексовал. А теперь я могу рассказать. Твоя бабушка дала огромную взятку декану. И все экзамены для тебя прошли очень легко.
С кухни доносится яростный крик дочери.
Я (чуть качнувшись от этого крика) Что ты мелешь? У бабушки только пенсия.
ХТАША Хо-хо. Твоя бабушка не так проста. Что ты знаешь о ней? Тебя никогда не интересовало ничего, кроме твоих закорючек. Сю-же-тов! Все иное ты удаляешь из организма.
Я Мне надо позвонить.
Моя квартира в Таганроге. Забытый, забытый ИНТ. Но пусть возникнет, мелькнет на прощанье. На кухонном столе дребезжит телефон, все тот же, чья серая трубка хранит останки блинного теста от рук бабушки.
Трубку снимает мужская рука. Мы не видим лица и держим интригу.
— Слушаю, да! — голос далекий, но знакомый, как звон стакана в плацкарте. — Слушаю! Кто это? Санька, ты? А это я, Карамзин, папка друга твоего. Санька, как хорошо, что ты позвонил. У тебя прям сердце-вещун.
Теперь, оператор, покажи нам крупно лицо абонента. Он по-родному нетрезв, озирается, щурится:
— Санька, давай приезжай.
— Куда?
— Сюда. Насчет билетов я договорюсь. Короче, померла бабулька твоя… Письмо оставила. Неужели нет водки в квартире?
Я вздрагиваю в номере «Перла», поднимаю голову с плахи: спал на столе, подстелив бланки гостиницы, изможденные моими ночными иероглифами.