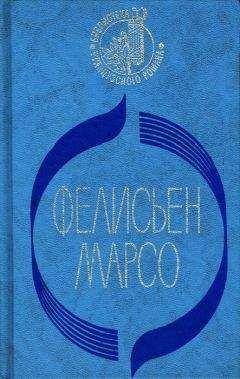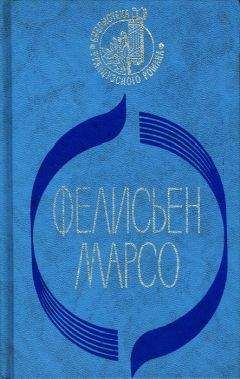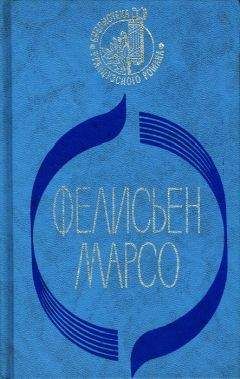— Браво, браво, — произнес я.
Я беззвучно, кончиками пальцев аплодировал.
— Мои поздравления, Ортанс. С каждым разом все лучше.
Я направляюсь к камину. Беру бумажник.
— Э!
Это Дюгомье издал какой-то неясный звук.
— Что, господин Виктор, — говорю я. — Вы должны были бы уже понять, что мое скромное жалованье не может обеспечить нам комфорт, в котором мы с Ортанс испытываем потребность.
Кладу бумажник к себе в карман.
— Но это же мое жалованье за месяц, — кричит он.
— Именно поэтому Ортанс и посоветовала мне обождать, господин Виктор.
По правде говоря, я об этом заранее не думал, но все складывалось как нельзя лучше.
— Ортанс? — произнес он.
Бедняга! В какой-то момент мне даже стало жалко его. Он пытался встать, но Ортанс цеплялась за него, я думаю, машинально. Насколько я знал ее, в этот момент она еще ничего не поняла.
— Но вы…
И он смотрел на Ортанс.
— Ах и ах! Господин Виктор! Это вы нас очень удивляете. Откровенно говоря, вы из всех первый, кто так жеманится. Фи! Вы что, думаете, пять дней с Ортанс, те пять раз, что я оставлял вас в покое, не стоят вашей месячной зарплаты?
Тут он что-то промычал. Ортанс все удерживала его. Он грубо оттолкнул ее. Отбросил одеяло. А я направился к выходу. И, переступая порог, еще крикнул ему:
— Куда же вы? Оставайтесь. Не спешите. А если в бумажнике остались какие-то личные бумаги, я вам перешлю их по почте.
И сбежал по лестнице.
Я надеялся побыть немного в кафе, где я устроился за столиком, чтобы произвести инвентаризацию бумажника. Я был скорее разочарован. Не в том, что касается денег, нет. Как он и сказал, в бумажнике была вся его месячная зарплата. Три тысячи двести франков. Я, кстати, думал, что он зарабатывает больше. С его манерами, с его гонором. Но что касается личных бумаг, то их практически не было. Несколько писем, не представлявших интереса. Какие-то женские фотографии. Подаренные на память, наверное. Или фотографии его сестры, о которой он все время говорил. Я их отправил ему, подрисовав усы. Фиолетовыми чернилами. Потому что мне было весело. Мне хотелось шутить. Я смеялся сам с собой. К тому же я был доволен собой. Мне казалось, я блестяще сыграл эту маленькую сцену. Настолько элегантно, что впору было самому удивляться. Обычно я не столь красноречив. А тут, в спальне, слова сами приходили ко мне. Как в состоянии опьянения. Но опьянение было легким, веселым, приятным.
Из кафе я пошел к зубному врачу. Потом к Розе — это был как раз наш день. Что касается трех тысяч двухсот франков, то по тридцать франков за гостиницу с Розой, по шестьдесят — когда с профессионалкой — считайте сами.
Плюс брошь за тысячу двести франков, которую мне пришлось подарить Розе, которая собиралась свести число наших встреч к одному разу в неделю.
Но вот уж кто попищал в тот вечер, так это Ортанс. Я думал, что найду ее в слезах, раскаявшуюся, подавленную. Или что она будет молчать, согласно золотому правилу Мазюров. Ничего подобного. Не успел я снять пальто, еще не повесил шляпу на то место, куда вешал свою шляпу Дюгомье, а она уже вышла из кухни и набросилась на меня. Прямо на площадке.
— Отвратительный тип!
Я? Вот уж правильно говорится: век живи, век удивляйся.
— Вор!
И все это на лестничной площадке. Это она-то, всегда действовавшая с такой оглядкой на соседей. Я толкаю ее в кухню. Но она не прекращала. Да еще Марта, которая хныкала, держась за ее юбку. Столько осложнений.
— Можешь радоваться. Тебе захотелось испачкать мою любовь, и тебе это удалось.
Я должен был бы что-то ответить. Но ничего не мог сказать. У меня ничего не осталось от того запала, который проявился днем. К тому же потом был еще дантист, была Роза, много всего. А состояния благодати проходят быстро, я успел в этом убедиться.
— Так опозорить меня!
Ну и апломб! Разве это не я рогоносец, или, может, кто-нибудь другой? Но мне не удавалось разозлиться. Я попытался употребить сарказм:
— Это я тебя опозорил! Ты изменяешь мне, а я тебя опозорил. Оригинально.
— Но эти деньги! Деньги, которые ты взял, как вор.
— А он?
— Что он?
— Он, который ворует у меня жену.
Это получилось удачно, я думаю. Она разрыдалась. И Марта тоже плакала все сильнее и сильнее.
— Он меня оскорбил.
— Жена, которая изменяет своему мужу, заслуживает того, чтобы ее оскорбляли.
Логика была на моей стороне. Я понемногу приходил в себя.
— Но эти деньги. Он считает меня твоей сообщницей.
— Ты моя жена.
— Он считает меня обманщицей.
В ее голосе слышалась неуверенность. Она не знала, подходящее ли слово она нашла.
— Он принимает меня за воровку. За проститутку. Он назвал меня шлюхой.
— Он правильно сказал. Жена, которая изменяет своему мужу, называется шлюхой.
— Но почему ты сделал это?
Я сделал зверское лицо.
— Разве мужчина, у которого воруют жену, которую он любит, не вправе воспользоваться всеми доступными средствами, чтобы вернуть ее.
После этих слов она перестала плакать.
— Но, Эмиль…
— Что?
— Я думала, что для тебя ничего не значу.
— Ты была неправа.
Она беспокойно посмотрела на меня, держа возле рта скомканный платок. Марта продолжала хныкать. Я взял ее за руку и отвел в столовую (всякий раз, когда мне приходится писать об этом, у меня начинают болеть зубы). Я вернулся на кухню. Ортанс стояла в той же позе.
— Эмиль, — сказала она, — я прошу у тебя прощения за то зло, которое я тебе причинила.
С удрученным видом я дружески обнял ее за плечи. Она шмыгала носом.
— Бедная моя Ортанс, все уладится.
Тогда она:
— Но эти деньги?
Ну сколько можно об этих деньгах?
— Что?
— Ты их вернешь ему?
— Ни за что на свете.
Черт, я ответил ей слишком быстро. Ортанс опять напряглась.
— И что ты будешь с ними делать?
— Я отдал их бедным.
Ортанс была удручена. Она не поверила мне, это было видно, но и не смела спорить. Она отстранилась и посмотрела на меня так, как если бы видела меня впервые в жизни.
— Но что подумает Виктор?
— Плевать мне на то, что он подумает.
— Он будет продолжать считать меня твоей соучастницей.
— Какое это имеет значение? Я надеюсь, ты не собираешься встречаться с ним снова.
— Но, Эмиль. А на что он будет жить? В этом месяце? Со своей матерью?
— Плевал я на его мать.
Мне стала надоедать эта мелочность. Я перешел на крик:
— Эти деньги! У тебя только и разговора, что об этих деньгах! А мое страдание! Оно что, не в счет, мое страдание? Целый месяц, пока я следил за вами! Целый месяц! Тебе нет никакого дела до того, что я пережил! Я даже хотел убить вас! Обоих! Пристукнуть обоих!
— Но, Эмиль, — говорила Ортанс. — Эмиль!
Первой заговорила со мной об этом Элиза. Однажды она явилась в министерство и стала расспрашивать.
— Ну, — сказала она. — Что-то тебя не видно? Что она хотела этим сказать? Мы и раньше виделись не больше шести раз в год.
— А что Ортанс?
— Ортанс! Я их накрыл.
— Не может быть.
— Именно. И я выгнал этого Дюгомье пинками под зад.
— А Ортанс?
— Она сожалеет.
— Тогда что, это официально?
— Как официально?
— Ну, то есть могу я, наконец, говорить об этом? До сих пор я не осмеливалась.
— Ты ведь видела столько же, сколько и я, разве не так?
— Это было немножко иначе, Эмиль.
Ну вот. Она опять о своей заднице. Она стала свидетельницей драмы. Мужчина и женщина на ее глазах занимаются любовью. Другой мужчина страдал. Или мог бы страдать. Семья дала трещину. И вот из всего этого что она вынесла? Что в какой-то момент чья-то рука легла ей на задницу. Просто невероятно.
Короче говоря, на следующий день, вернувшись домой, я застаю Ортанс в слезах, а перед ней госпожу Мазюр со строгим, серьезным лицом, какое у нее бывает по торжественным дням. А вокруг них — что-то вроде запаха. Запаха слов. Не знаю, обращали ли вы внимание, но комната, в которой много говорили, пахнет не так, как другие комнаты. Там появляется какой-то своеобразный запах. Особенно, когда там произносили серьезные, решительные слова, когда там разворачивались сцены.
— Здравствуйте, мамочка.
Она поднимается.
— Эмиль, — говорит она мне, — я плохо о вас думала. Прошу вас простить меня.
Вот они, люди. Тебя считают дрянью. Ладно. Потом хотя ты нисколько не изменился, а просто потому, что рядом появилась другая дрянь, ты оказываешься сразу не такой уж дрянью. Где логика? А может быть, она, госпожа Мазюр, обрела теперь какой-то покой. Прежде она считала меня шалопаем. Теперь же я стал просто рогоносцем. То есть в каком-то смысле все упрощалось.
— Мой бедный Эмиль!