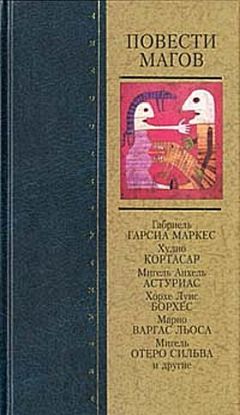Небо за окном было холодным, высоким петербургским небом, заложенным бледно-серыми, рассветными, гладкими, как песчаные мели, облаками, и, глядя на небо, Трубецкой пытался понять, что было причиной тоски, которая посреди ночи разбудила его.
«Что-то выпало из моей души, да, выпало, как из кармана. А раньше лежало надежно. Но что это было? Да! Что?»
Он вдруг сильно покраснел в темноте.
«Может ли это быть от того, что я потерял веру? — пробормотал Трубецкой, останавливая глаза на пульсирующем в вышине облаке. — Я думал, что если я ходил на Пасху и два раза постился, то, значит, я верую, но это ведь чушь! Я рассчитывал только на себя, я ни разу не обратился к Нему за помощью! Я негодовал. Я слабел и завидовал. — Он вспомнил бледный, немного овечий профиль профессора Янкелевича с его непомерно большим, грустным глазом. — Я ни разу не попросил Его, чтобы Он успокоил нашу вражду с Янкелевичем, ни разу не усмехнулся на нашу взаимную глупость! Во мне за все это время не было ни одной благообразной , опрятной какой-нибудь мысли! Ни разу!»
Иль в зеркало времен, качая головой,
На страсти, на дела зрю древних, новых веков,
Не видя ничего, кроме любви одной
К себе и драки человеков,—
страстно прошептал Трубецкой и еще раз посмотрел на ее тихое лицо с полуоткрытыми губами. Оно показалось ему несчастным и беспомощным.
«Я гнался за призраком счастья. Мне казалось, что оно впереди, и нужно быстро-быстро бежать, чтобы ухватить его. И поэтому я дрался с Янкелевичем, я именно дрался с человеком для того, чтобы получить кафедру и унизить его. И я сам раздразнил в нем того мелкого и визгливого беса, который искусал меня. А раньше этого беса не было, был просто несчастливый, нездоровый человек».
Он вспомнил, как Янкелевич пришел к нему мириться перед самыми каникулами и как он «отвадил» его.
«Зачем же я это сделал? Когда он пришел ко мне, он был лучше всего. Он не побоялся унижения. А ушел от меня разозленным и обиженным. И хуже намного, чем был. Я поступил с ним так, что в мире прибавилось зла в этот день. Пшехотский думает, что ему позволено грабить Русский музей, потому что большевики виноваты перед ним и его семьей, и с ними можно вести себя так, как угодно. Но те, которые были действительно виноваты, они ведь давно умерли, и их больше нет, а зло, причиненное ими Пшехотскому, осталось в Пшехотском, и он не понимает, что делать то, что он делает, просто нельзя, это подло. Да, так во всем. Цепочка добра и цепочка зла, и человек свободен в одном: в том, что он сам выбирает, к которой из них подключиться. А я — что? Не знал разве этого?»
Лицо Таты стало слегка расплываться и поплыло перед его напряженными глазами в виде какой-то продолговатой бледноты, на которой уже не видно было черт, но была та же самая тоска, которая разламывала и его сердце.
«Кто знает, не собью ли я ее с этого сердечного и совестливого пути тем, что женюсь на ней? Она, может быть, инстинктивно пытается избежать нашего брака, и концертмейстер — это только ее стремление любыми путями не сделать там зла?»
Он в страхе отвернулся к окну, чтобы не видеть этого тоскливого и покорного лица. Небо становилось светлее, и чувствовалось, что утро будет не пасмурным, а солнечным, зимним и радостным утром, и снег будет чистым, сверкающим, легким.
Перед завтраком профессор Трубецкой открыл компьютер и увидел у себя на экране коротенькое письмо от Петры.
…милый Адриан, — писала Петра по-английски. — Эрика позвонила мне на днях из Стокгольма и предложила чудесную работу: в университете совершенно неожиданно открылась позиц ия на преподование трех курсов: один — русского языка для начинающих и два — литературы. Я уже связалась с ними, послала свое резюме, и они меня берут. По-моему, это такая удача, от которой грех отказываться. Сашу и Прасковью я возьму с собой, пусть они этот семестр поживут в Европе и немножко отдохнут от всех своих стрессов. Семья, кстати, очень хотела бы их повидать. Они хоть немного, но все-таки шведы. Тебе будет проще разобраться со своими делами и уладить свои неприятности, если мы не будем висеть на твоей шее, и ты хоть немного вздохнешь. Я уже взяла билеты, мы улетаем второго, чтобы мне успеть подготовиться и чтобы дети вовремя приступили к занятиям.
Дальше была приписка:
Я ни при каких обстоятельствах не хочу мешать тебе. Мне легче сейчас принять предложение этой работы и уехать, чем видеть, как наша семья превращается
На этом письмо обрывалось. Трубецкой догадался, что Петра не стала заканчивать последней фразы и нажала на кнопку send , не перечитывая того, что написала, словно бы испугавшись, что у нее не хватит духу сообщить мужу о своем решении.
21 апреля Вера Ольшанская — Даше Симоновой
Они прилетели. Гриша сам снял квартиру, то есть не сам, но попросил кого-то. Они прилетели вчера. Ему нужно попасть домой. Тут все его вещи. Спросил меня, когда можно зайти. Мне хочется уехать куда-нибудь, исчезнуть. Опять во мне ненависть и, главное, удивление на все и на всех: как же так?
Мама улетела к тете Жене недели на две. Слава богу.
…
Любовь фрау Клейст
По оставленному сорок три года назад завещанию все имущество, принадлежавшее Францу Клейсту, в случае смерти последнего, переходило к его жене, Грете Клейст, урожденной Вебер, а в случае ее смерти — к родным трем племянникам Франца, их детям и внукам.
Из всех этих родственников уцелела только одна, самая младшая племянница, с двуми детьми подросткового возраста. Она-то и приехала из Мюнхена, сокрушаясь, что похороны приходятся на третий день Рождества, и очень — судя по ее замаслившимся глазам — радуясь получению наследства.
Вернувшись домой и коротко рассказав Полине, как именно произошла смерть, Алексей, нахмуренный и притихший, прошелся по саду, потрогал рукою замерзшие флоксы.
Из сточной трубы торопливо стекала вода, и звук был таким, словно это журчал ручеек в неизвестном ущелье или (что неожиданно пришло ему в голову!) слегка клокотал голос бедной старухи, которую вскоре должны хоронить.
После всех его потерь — не говоря о потери Любочки — Алексей не должен был как-то особенно думать о своей квартирной хозяйке, но он почему-то думал о ней, и ему вспоминалось одно и то же: их приезд в этот дом на острове — самые первые минуты, — когда она сбросила пальто, и он посмотрел на ее отражение в зеркале.
Никогда в жизни он не встречал ни на одном человеческом лице такого сильного стыда. Тогда он удивился, хотя сразу же забыл об этом, но теперь, заново возвращаясь ко дню, когда он нашел фрау Клейст, лежащую на полу с огненно-красным запрокинутым лицом и неловко раздвинутыми старческими коленями, заново поражаясь тому, как нарядно она была одета (вернее сказать, не одета, потому что узенький серебряный пиджачок был напялен на черное кружевное белье и не застегнут), Алексей начал чувствовать странное беспокойство, словно в их путешествии на зимний остров и в ее смерти осталась целиком обращенная к нему стыдливая, очень неловкая тайна.
Он помнил, как его поразило тогда это кружевное белье, из-под которого вываливались ее сухие, белые, словно бы алебастровые ноги, похожие на отбитые ноги статуи в парке культуры, и он, подбежав, приподняв ее с пола, увидел так близко их твердые кости, которые были, как будто в бумагу, завернуты в тонкую кожу.
Он знал, что не имеет права додумывать свои подозрения до конца, поскольку теперь, когда ее нет на земле, нельзя оскорблять ее ищущей тени и этой в незримость летящей души своими ничтожными, стыдными мыслями.
Небольшая красная птица, название которой всегда выскакивало из его памяти, лукаво склонив свою пеструю, очень нарядно украшенную высоким хохлом головку, спрыгнула на подтаявший, тонкий слой снега и начала что-то склевывать с него. Он подошел ближе, и птица не только не испугалась его, а, напротив, метнув своим черно-сияющим глазом, начала еще энергичнее и деловитее работать клювом. Потом, подпустив его на расстояние вытянутой руки, она вдруг вспорхнула на дерево и застыла на нем, по-прежнему не уводя с него взора. Алексей смотрел на эту красивую красную птицу, но мысленно видел умершую: черное кружевное нарядное белье, воспаленное лицо в золоте крашеных волос и особенно ее длинную, как будто бы птичью шею с блестящим большим, спелым жемчугом.
Он услышал, как Полина зовет его в дом, и поразился тому, что ее голос не только не вызывает в нем отвращения, как раньше, но он невольно радуется, что она так просто зовет его, как будто совсем ничего не случилось: ни этой измены, ни смерти старухи.
Случилась, наверное, любовь. Которая ни от чего не зависит. И нужно смотреть на нее, как на птицу. Пускай и она доклюет свои зерна.