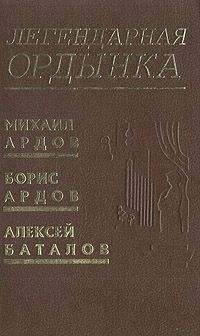Открыв одну картонную папку, он вдруг узнал эстамп, который в течение долгих лет сопровождал его во всех путешествиях и который когда-то обладал для него почти суеверным смыслом. На картинке был запечатлен один из эпизодов карьеры загадочного Пола Морфи, который был его героем, его моделью. Он был изображен играющим с герцогом Брауншвейгским в ложе Оперы на улице Пеллетье во время его приезда в Париж в 1858 году. Документ, несомненно, уникальный, во всяком случае редчайший, и страстные коллекционеры всего того, что касается шахмат, заплатили бы за него на торгах чистым золотом. Ни один мастер былых времен или современности не имел в его глазах такой силы, истоки которой он так и не смог понять до конца. Этот щуплый юноша небольшого роста, обладавший острой, как у девушки, чувствительностью, который нес свой гений, как какое-то привязанное к ноге ядро, почти как порок, после отказа Говарда Стаунтона, английского чемпиона, с ним играть, не мог быть для человека вроде Арама ни героем, ни моделью. Скорее он был особым случаем. Он был человеком, тщетно пытавшимся поменять свою судьбу. Преуспел ли Арам в том, в чем Морфи, вернувшийся в Новый Орлеан, потерпел поражение: в личной жизни и в своей карьере законника одновременно? В конечном счете его, дошедшего до края своей медленной духовной деградации, нашли мертвым в ванне, когда ему было сорок семь лет. Даже тогда, когда он уже перестал играть в шахматы, когда испытывал к игре лишь отвращение и видел в ней источник всех зол, даже и тогда шахматы продолжали оказывать на него отчуждающее, разрушительное воздействие. Однако в этом неординарном персонаже присутствовала какая-то беспокойная грация, какая-то юношеская упругость, которые могли бы объяснить это влечение. В конечном счете, скорее всего, как раз такая незащищенность перед жизнью и привлекла к нему внимание Арама, а не его чемпионские заслуги и великие партии. Он внезапно увидел в нем своего брата. Однако брата, которому не повезло. Или которому не повезло в юриспруденции, в той области, в какой он хотел добиться успеха. Брата, который смотрел на свою славу как на насмешку, как на препятствие, мешавшее ему стать тем, кем он хотел. Он тщетно пытался работать в новом направлении — у него ничего не получалось. У Арама все получилось совершенно не так, как у Морфи. Ни один чемпион не отказывался сесть напротив него за стол в официальных соревнованиях, где ставкой является шахматная репутация и титул. Он ушел из шахмат сам, по собственной воле. И жизнь его продолжалась, и ему представились другие, причем прекрасные, возможности.
На этом эстампе у Морфи был вид едва ли не ребенка, уставившегося на свои пешки, будто с единственной целью — придать себе важный вид. Странно было обнаружить его в этом ящике, в этой папке. Выбросить со всем остальным или кому-то он еще нужен? Он заколебался. Разве можно уничтожить такой документ?
Морфи был родом из Луизианы. И Арам вспомнил о маленьком музее в Новом Орлеане, в районе Вье-Карре, около бывшего невольничьего рынка. Он вспомнил о нем благодаря знаменитым гравюрам Джона-Джеймса Одюбона, орнитолога, которые он там видел, являющиеся частью серии «Птицы Америки». Он попросил Хельмута принести большой конверт, куда вложил эстамп, единственный предмет, связывающий его с тем периодом жизни, когда он жил только ради шахмат и благодаря шахматам. Потом, запечатав конверт, он написал приблизительный адрес музея. Выше, чем там, такой документ не оценят нигде, и нет для него более подходящего места, чем город, где Морфи родился. Потому что он-то, по крайней мере, знал, где родился.
Рабочий ужин, состоявшийся в квартире директора, оказался менее скучным, чем можно было предполагать.
Там сравнительно мало говорилось об основных направлениях развития концерна и о том, как в дальнейшем строить свой marketing.[64] В пределах швейцарских границ никаких неблагоприятных явлений, связанных с сезонными перемещениями, опасаться не следует. В остальном же — стратегическое отступление. Там, где риск себя больше не оправдывал, империя Ласнер-Эггер время от времени сдавала ту или иную крепость, но притом ее руководители выражали по этому поводу не больше сожалений, чем правители метрополий по поводу утрат своих владений в эпоху деколонизации. Любопытно было видеть, до какой степени эти молодые администраторы — они были бы на своем месте также и во главе какой-нибудь электростанции — сохраняли присутствие духа перед лицом таких событий, которые сразили бы на месте старого Тобиаса и его сподвижников. Фирма существовала преимущественно в виде мифа, и большинство из этих новичков иной ситуации никогда и не знало. А поскольку во внешнем мире позиции защитить было уже невозможно, то стоило ли отказываться от выгодных предложений и от притока ливанских, японских, саудовских капиталов? В слишком долгом выжидании есть риск, что дело дойдет до поштучной распродажи апартаментов. Избежать подобной ликвидации имущества — это значит спасти по крайней мере марку фирмы, поскольку ее флаг продолжал развеваться на мачте над крышей даже и потом. Во всяком случае, подобное отсутствие ностальгических эмоций создавало за столом вполне приятную атмосферу. Великие династии владельцев отелей спали тем же глубоким сном, что и династии маршалов. Поэтому было бы в высшей степени неуместно перед этими молодыми управляющими сотрясать воздух именами Баэлера, Зюффере или кого-либо еще либо проявлять в этой области что-то вроде реваншистского национализма.
И все же в тот момент, когда Арам уже прощался, бывший директор-управляющий гштадского отеля, ставший почетным финансовым советником, отвел его в сторонку. Это был человек другого поколения, сформировавшийся во времена Тобиаса. Ему тяжело было наблюдать за тем, как эта империя погружается в такой же мрак, как Китай эпохи мандаринов. Он начал с того, что стал перечислять имена великих чемпионов в лыжном спорте, в бобслее, даже в велосипедном спорте, бывших звезд того-то и того-то, перешедших в гостиничную индустрию. Об остальном Арам уже догадывался. Он, Арам Мансур, имя которого еще не забыто, тот, кто благодаря своим переездам досконально знает страны и народы, во всяком случае лучше, чем кто-либо из присутствующих здесь руководителей, разве он не предназначен самой судьбой для того, чтобы исправить положение, придать новый импульс… и т. д.? И к тому же разве не наступило время, чтобы он, прямой наследник Тобиаса Ласнер-Эггера, взял в руки кирку великих первопроходцев, чтобы стать… странствующим вестником нового завоевания?
Подобные предложения, сформулированные в том или ином виде, ему приходилось выслушивать уже не первый раз. Он смеялся над ними и ускользал. В действительности же единственно, чего они от него хотели, чтобы он не выбросил на рынок те немногие акции, которые у него еще оставались, что могло бы способствовать прогрессирующему тайному сокращению капитала, в результате чего концерн рисковал выйти из борьбы утратившим контрольный пакет акций. Впрочем, сделай он что-то в этом роде, его добыча была бы невелика.
Группа, сопровождаемая Ретной, еще не вернулась. Арам получил подтверждение этому от портье, мужчины с маленькими золотыми ключиками, сверкавшими на лацканах его ливреи, а также в регистратуре, где в первый раз ему было названо имя девушки: мадемуазель Сер. Ретна Сер. Он несколько раз повторил про себя это имя, чтобы привыкнуть к нему. Ретна Сер… Он спустился в «Гиг», хотя прекрасно знал, что ее там быть не могло. Потом, выпив в баре кофе по-ирландски, он поднялся к себе и уселся перед телевизором. Время от времени он подходил к окну, чтобы каждый раз снова убедиться, что три черные машины на стоянку еще не вернулись. В конце концов он лег.
— Синьор Мансур?.. О! Даю вам синьору Робертсон… prego… viene subito.[65]
Он мгновенно проснулся от удивления. Каким это ветром Дорию могло занести в Рим или на Капри? Спасается бегством от катастрофы? Почему с ним говорят по-итальянски?..
— Darling,[66] это ты? Мне обязательно нужно тебя видеть.
— Но где ты?
— В Лондоне! Где я могу еще быть?
— А кто сейчас говорил?
— Уго, понимаешь!.. Гениальный… божественный!
— Уго?
— Уго Карминати!.. Разве может быть другой? Он здесь, за моим столом, справа от меня… Если бы ты видел всех, кто нас окружает… всех этих людей… Арам, происходит просто невероятное…
— А фильм?
Она выразила такое удивление, как если бы сломались Тельстар или все находящиеся в работе телетайпы. Удивление от того, что он еще не знал всего в мельчайших подробностях. Он получил право услышать ее победную песнь, выделяющуюся из гама приглашенных в какой-то ночной ресторан, которые пришли отпраздновать ее триумф и одновременно позлословить на ее счет. Он видел все это, словно находился сейчас там. А впрочем, почему бы и не принять изложенную ею версию, то есть что зал, стоя, устроил ей овацию, пока шли титры в конце фильма. Нужно же ей иметь хотя бы, например, этот талант, если уж у нее так плохо все получается в постели и еще хуже на кухне. Только этот триумф, который только что состоялся, он был уже в прошлом.