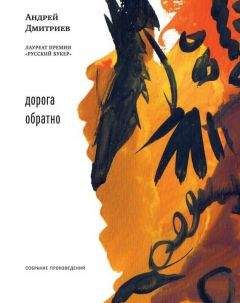Ее звали Галина. Она заведовала библиотекой ДК железнодорожников и не ходила в шумный «Лель». Ее очень кстати бросил муж, военный летчик: в Хнове их сновало как муравьев, и все — на одно лицо. Ее сосед по лестничной площадке, тоже летчик, как-то раз вернулся злой и пьяный с браконьерской рыбалки и рванул динамитную шашку прямо в подъезде. Взрыв укокошил придурка и разнес вдребезги прихожую в квартире Галины. Пришлось помочь ей с ремонтом. Довелось у нее остаться. Было хорошо, нормально. Брошенная мужем и пострадавший за широту натуры — они друг друга жалели и понимали. А потом вдруг явился муж, этот майор. Права не качал, ни на что не претендовал — просто сел ужинать. Молча поужинал и ушел. Вскоре опять пришел, и опять к ужину. Все молчал. Потом стал разговаривать, приглашал с собой на прогулки по хновским окрестностям. Галина в этих прогулках не участвовала — она словно бы чего-то ждала. Во время прогулок разговоры велись не о ней — больше о книжках, на которых этот майор просто свихнулся, которые, кажется, только он и читал, о статьях, о которых, кажется, только майор и слышал. Говорил один майор — приходилось ему поддакивать и подхмыкивать, причем с разными интонациями, чтобы не выглядеть перед ним полным идиотом… Поддакивал, маялся, тосковал, скучал, а когда вдруг майор ни с того ни с сего сказал, что не мыслит себе жизни без Галины — скука прошла мгновенно. Терять Галину было бы глупо, а главное — несправедливо. Захотелось отшутиться, и отшутился: только дуэль. Майор отнесся к шутке спокойно и серьезно. Он, оказывается, тоже подумывал о дуэли. И выходило так, будто это дело решенное. Майор добыл два пистолета Макарова, и настал тот день, начиная с которого каждая минута жизни высвечена таким же ярким, режущим светом, каким бьет в глаза лампа на столе следователя районной прокуратуры Стригункова. Семьдесят девятый год. Двадцать первое ноября. Утро. Сели на автобус, сошли на пятом километре, спустились к берегу озера. Снег не выпал, лед на озере день как встал и был черен. Майор достал из-за пазухи пистолеты и протянул один, не глядя. Пистолет был теплый. «Надеюсь, ты понимаешь: я не могу в тебя стрелять, мы даже не враги», — буднично сказал майор. Чего ж тут было непонятного… «Надеюсь, ты понимаешь: мы не можем так разойтись, это будет невыносимо». Это было не слишком понятно. «То есть я хочу сказать: это будет братская дуэль, если ты в принципе согласен с этим определением». Это было совсем непонятно… «Шесть шагов. Я стреляю, ты стреляешь — одновременно. По команде „прощай“. Каждый — в себя». Это было понятно: армейский юмор. Главное было — соответствовать, хранить обреченное и торжественное выражение лица. «Обнимемся», — сказал майор. Это было глупо. Обнялись. Майор отпустил, отвернулся, отшагал шесть медленных шагов и встал. Передернули стволы. Юмор юмором, а железный пистолет у виска — это неприятно. «Прощай», — сказал майор. И выстрелил, сволочь.
Галину после этого не видел долго и не верил, что увидит ее когда-нибудь. Вшивел в предвариловке, ждал суда. Этот Стригунков из прокуратуры допросами не донимал, но едва не свел с ума следственным экспериментом на месте происшествия. Шили хищение и незаконное ношение оружия плюс принуждение к самоубийству. Первые два пункта быстро отпали, по третьему суд оправдал: погибшего майора в Хнове знали как вполне законченного психопата… Галина на суд не явилась. Когда отпустили, пришел к ней проститься и попросить прощения. Оказалось, пришел навсегда. «Теперь мы с тобой повязаны», — сказала она едва ли не с улыбкой. Чтобы не подумала, будто это ему все легко, чтобы самому не подумать, будто это все легко, выбросил на помойку легкую куртку из клеенки. Купил ватник, тулуп и сапоги, самые тяжелые из тех, что были в магазине. Ватник она отняла, сказала «не дури», тулуп сочла вещью полезной, на сапоги не обратила внимания… Можно было жить, но переменился воздух вокруг. Из «Кибальчиша», понятно, попросили. В библиотеке у Галины прибавилось посетителей: приходили на нее посмотреть. Она была совершенно спокойна. Завидовал ей, потому что никак не мог сделаться спокойным. То ли сапоги оказались недостаточно тяжелыми, то ли устал вздрагивать от мерзкого шушуканья за спиной, но скоро понял — надо бежать. Прежде всего сменил фамилию: был Козов, стал Смирнов. Затем в соседнем райцентре Пытавино нашел работу на шкуркиной фабрике, как там называют кожевенный завод, и предложил Галине туда перебраться. Она спокойно согласилась. Предложил ей, наконец, пожениться. Она и на это согласилась без волнений и раздумий. В пытавинском загсе их объявили мужем и женой. Но когда посоветовал ей взять его новую фамилию, когда ради новой жизни попросил ее записаться Смирновой, — с нею что-то произошло. Лицо свела судорога, глаза стали меньше мелких бусинок; она била себя по щекам и кричала на весь загс, так, что было слышно на улице: «Я Трутко! Я Трутко! Я Трутко!».
Это мой небольшой, не смертный грех; он никому не во зло, и о нем никто не знает, кроме Тебя, — эти люди не в счет, я не увижу их больше никогда в жизни… Ты же Сам видел: это не я, это он соблазнил меня своим генеральским портвейном; я, кажется, никогда раньше не пробовала портвейн, но это уже не важно, — важно то, на чем этот сторож настаивает свой спирт… Не на гадости, по вкусу — совсем не на гадости, а вот по существу — неизвестно еще, чем обернется. Сяду в поезд, выйду в тамбур, там помолюсь Тебе и попрошу Тебя, чтобы завтра в Москве не болела голова и не бухало в груди…
Женщина в черном плаще хоть и пьяна слегка, но поднимается на крыльцо собора легким и твердым шагом, поддерживая под локоток сильно нетрезвого музейного сторожа. Мужчина в серой драповой куртке крепко держит его за другой локоток, перед самой дверью отпускает и отбирает ключ. С лязгом падает чугунный засов.
— Эти — со мной, — заявляет музейный сторож капитану милиции Дееву, с любовью подмаргивая своим опекунам. Вваливается в черный проем двери, гулко шаркает там, вздыхает, громко шарит рукой по стене. Сноп яркого света вырывается из нутра собора, и голос сторожа строго зовет: — Прошу входить.
Мужчина в драповой куртке, женщина в черном плаще и воспитательница Ольга Павловна молча разбредаются по углам собора в ожидании, когда глаза притерпятся к белому и злому излучению музейных ламп. Снетков и отец мальчика по знаку капитана остаются снаружи.
— Где еще искать? — капитан хмуро и внимательно смотрит на часы.
— Россия большая, — решается на шутку Снетков.
— Большая, — соглашается капитан. — Но отвечать придется тебе. А нам уже некогда… И вам, и вам некогда! — прикрикивает он на отца мальчика, как если бы тот, поникший и безразличный ко всему вокруг, вздумал бы с ним спорить. — Если вы, конечно, хотите успеть на свой пытавинский поезд.
— Ужин скоро? — спрашивает отец мальчика.
— Через час с небольшим, — отвечает Снетков.
— Есть захочет — прибежит.
— Вряд ли, — возражает Снетков, пытаясь не выказывать своего торжества. — Он у нас враг еды, вы должны это знать. Очень, очень плохо ест… Он и не вспомнит об ужине.
— Это справедливо, — глухо произносит отец мальчика. — Я говорю: справедливо, что самоубийц не пускают в рай. Они после себя оставляют такой разгром, такой бардак, такой ад, что и сами ничего, кроме ада, не заслуживают. — Не попрощавшись, он направляется к воротам, еле волоча по пыли подошвы своих сапог.
Капитан брезгливо глядит ему вслед и тихо произносит:
— Розыск пока не объявляю. Дело не завожу и хода ему не даю. Ищи пока… Найдешь — дай знать. Не найдешь — извини. Тут тебе никто не поможет.
— Спасибо, — растроганно бормочет Снетков.
Отец мальчика скрывается из виду, и капитан улыбается:
— Хороший здесь воздух, доктор.
— Воздух чистый, — улыбается Снетков.
— Как полагаешь: где-нибудь в настоящих, в Карпатских горах, например, — там воздух еще чище?
— Думаю, значительно чище!
— Мне скоро в отпуск, — поясняет капитан. — Выходит, ты советуешь нам с женой махнуть куда-нибудь в Карпаты?
— Еще бы…
— Тогда посоветуй, на кого нам дочь оставить. Ни бабушек у нас, ни дедушек… Можно, конечно, взять с собой, но это, извини, не в кайф. Это работа, а не отдых.
— Сочувствую, — настороженно произносит Снетков.
— Правда? — радуется капитан. — Тогда пристрой ее здесь. Присмотришь за нею, укрепишь ее здоровье… А после отпуска, ты не бойся, мы ее заберем.
Снетков растерянно молчит, глядя в веселые, немигающие глаза капитана. Пытается возразить:
— Так не делается… Есть какие-то правила, есть порядок… Необходимо обследование, подходящий диагноз… И обязательно — направление…
— Вот и позаботься, чтобы все было по правилам, — торопливо и жестко заканчивает разговор капитан милиции Деев. — Обследования, какие нужно. Направление, откуда нужно. Ты же умный, позаботься… Я тебе позвоню. — Он пожимает Снеткову вмиг вспотевшую ладонь, идет, не оборачиваясь, к воротам и, прежде чем исчезнуть, аккуратно закрывает их за собой.