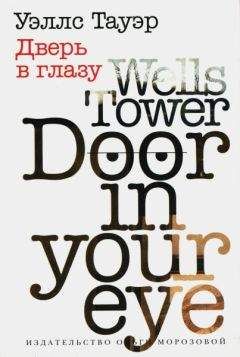Спустя два года ненавистник испанцев – наемник Доминик де Гурж – командируется Катериной де Медичи, поклявшейся отомстить испанскому королю (презираемому ею зятю). Де Гурж высаживается на северо-восточном берегу полуострова с сотней аркебузиров и восемью матросами. Он вступает в союз с индейцами, пострадавшими от испанцев, и вскоре форт Сан-Матео превращается в руины. Над умерщвленными испанцами вывешивается надпись: МЫ ПОСТУПАЕМ ТАК НЕ С ИСПАНЦАМИ, А С ПРЕДАТЕЛЯМИ, РАЗБОЙНИКАМИ И УБИЙЦАМИ. Отомщенные французы отплывают обратно, оставив своих индейских союзников на милость испанцев в Сент-Огастине, где Менендес почитался основателем города.
Со временем правители Испании и Франции даруют друг другу искомое взаимное прощение. Таковы, наверное, правила у завоевателей… Но у мертвецов есть свои правила, и французам, павшим от вероломных мечей, слишком хорошо известно, что такое время, и ничего не известно о прощении. Их нетленные души томились на окровавленном берегу двести пятьдесят с лишним лет. Настолько истощена была их жизненная сила и настолько велика сила смерти, что я – оказавшись вблизи – лишилась чувств, будучи на грани небытия.
На этих овеянных смертью дюнах мы провели ночь. Расстроенная Селия посчитала мертвой меня – признаков кровообращения во мне не наблюдалось, дыхание остановилось. Грудь моя, по ее уверениям, совершенно не вздымалась. Однако всю ночь она пролежала рядом со мной, свернувшись в клубочек. Если это и было утешением, то слабым. Услышав это, я начала ломать себе голову. Узнала ли она, что?.. Увидела ли?.. Какие мои тайны выявились в мертвенном оцепенении?
Но нет. Селия сказала только, что плакала от отчаяния. И как же была ошеломлена, когда на рассвете глаза мои раскрылись и, как она клялась, зрачки медленно, очень медленно приняли свою обычную форму.
Оправилась я не сразу, но за эти несколько дней мы добрались до Сент-Огастина. Завидев рыбака в лодке, Селия ему призывно помахала. Рассказать подробнее ни о чем не могу. Вновь повстречавшись с множеством неуспокоенных мертвецов, я лишилась сознания и впала в изнеможение куда более сильное, чем испытанное мной в Ричмонде… Да, все, на что я способна – оправдываясь своей болезненной чувствительностью, – это признать: после той первой матансасской интерлюдии во мне забрезжило, только забрезжило понимание того, что мне известно теперь определенно.
Из полного набора ведьминых свойств я обладаю наиболее диковинным – я породнена со смертью.
Каким образом я спозналась с покойниками? Когда, от кого усвоила язык, на котором они говорят? Может статься, от суккуба – Мадлен, чья речь… нет, разве это назовешь речью… исходила из глотки, из которой она вырвала язык? Из дополнительного отверстия в горле толчками вырывались разумные фразы и сгустки крови, хотя девические губы и не шевелились. Тогда от отца Луи? Священника-инкуба, ее любовника? Или же это родство – врожденное сходство, унаследованное иными сестрами, талант, близкий гаданию на магическом кристалле, дару предвидения и тому подобное? Не могу сказать. Не знаю.
Достаточно одного: я каким-то образом породнена с неупокоенными мертвецами. Если я – фитилек, то они – воск, меня окружающий; их мертвенное давление служит мне топливом, заставляет гореть.
И хотя я это уже уяснила, оставались вопросы: как, как, как устроить свою жизнь среди моих усопших хранителей? Среди ангелов наоборот, витающих к югу от города, над матансасскими дюнами, среди ангелов, одаривших меня… ну, энергией, наверное… соразмерной с ужасом, владевшим ими в последние минуты жизни и не покинувшим их до сих пор, ибо воистину, исцелившись, я ощутила в себе перемену. Я стала сильнее – да, это так.
Очнулась я в жаркой комнате с белыми стенами. Лежала я ничком и с облегчением увидела, что одежда на мне, грязная от многодневного пешего путешествия. Как я сюда попала – не имела понятия. Вода. Вспомнилась вода, отплытие из матансасского залива. Затем – полный провал в памяти.
…Пансион, в северо-западной части города.
Селия сняла две комнаты, занимавшие весь второй этаж. На нижнем этаже жила владелица – свободная женщина, которая продавала мыло через дверь дома ее законной собственности. Это была односкатная деревянная постройка. Наши комнаты выходили на балкончик, глядевший на мощеную улочку – довольно тихую, когда не горланили порой матросы и не громыхали проезжавшие мимо телеги.
Теперь мы могли бросить взгляд в прошлое. Мы читали – нет, дотошно изучали газеты, полученные с севера, вплоть до Нью-Йорка. Нигде о нас не упоминалось ни словом. Никаких объявлений о розыске. Эта новость, конечно же, радовала. Но приходилось постоянно отгонять от себя мысли о том, что нас могут выследить, подвергнуть унижениям, наказанию плетьми или чему-то худшему. По американским законам, за совершенное преступление мне полагалась смертная казнь. Что касается Селии, то мне трудно сказать, о чем она думала. Заговаривала об этом она только под давлением, и я старалась ее не принуждать.
Скоро наши финансы истощились. Селия взялась помогать нашей престарелой хозяйке изготавливать и продавать мыло, однако это добавляло в наш кошелек сущие гроши. Пора было мне приступить к делу и заняться тем, чем обязан заниматься мужчина.
Испанцы оставили после себя путаную систему отвода земельных участков, разбираться в которой американским поселенцам во Флориде было довольно сложно. Сент-Огастин – столица Восточной Флориды – исключения не составлял.
Теоретически землю можно было приобрести на следующих условиях: за наличные – кто придет первым; минимальной покупкой четвертой части участка (сто шестьдесят акров) по цене в один доллар и двадцать пять центов за акр. С помощью ростовщиков, перекупщиков и осведомителей, охотно посвящавших меня в тонкости кредита, я подыскивала для нас участок поменьше, клочок пахотной земли. Трудность состояла не столько в том, чтобы собрать нужные средства, сколько в том, чтобы выбрать что-то подходящее.
Я присматривалась и приценивалась, до отвращения много толковала о косогорах и кустарниках, о барбадосском хлопке и тому подобное. Мне требовался участок, пригодный для выращивания цитрусовых. Я, подчинившись прихоти, отдала им предпочтение перед шелковичными червями и обрыскивала земли от устья реки Сент-Джон на севере до двенадцатимильной топи на юге, а также от побережья до Кауфордской переправы. Меня тянуло к равнинам Диего – и в особенности к клочку земли, прилегающему к протоке Пабло. Это было рукой подать до Кингз-роуд, где я могла бы иметь легкий доступ к двухнедельной почте. Увы, дальнейшее расследование заставило отказаться от данного приобретения, поскольку земля все еще принадлежала человеку, который вернулся в Гавану вместе с уезжавшими испанцами. Я могла бы обратиться в конгресс, к испанскому королю, а то и к самому жителю Гаваны, однако успеха это не обещало. В итоге от карьеры плантатора я решила отказаться. Останусь в городе, с Селией под боком.
Однако какой же все-таки бизнес мне избрать?
Неудача с покупкой земли спустя несколько месяцев обернулась для меня новыми перспективами.
В городе я познакомилась с французом, состоявшим на американской службе. Должность его именовалась так – официальный переводчик с французского и немецкого (устный и письменный). Утомленный переводами документов о спорных земельных угодьях, он был готов оставить свой пост, как только получит долгожданное поручение составить карту Верхних отмелей… Переводчик на службе территории?.. С французского? Отлично. С английского? Да. С испанского? Да. Придется изрядно поломать голову и зарыться в словари, но с работой я справлюсь. В этом я себя убедила (правда, больше с помощью Селии). И вот, едва пришла желанная бумага, мой соотечественник представил меня губернатору Дювалю как своего преемника, и дело было улажено.
Эта должность принесла не только вознаграждение – 275 долларов в год (сумма более чем приличная), – мне предоставили также жилище недалеко от центральной площади города. Дом – наш дом – располагался на Хоспитал-стрит. О, как же мне хотелось надеяться, что он станет нашим домашним очагом.
Двухэтажное здание было сложено из бревен и ракушечного известняка, добытого в каменоломне напротив гавани, на острове Анастасия. Окаменелый материал сохранял завитки и узоры раковин. Мне полюбилась наружная поверхность наших стен – отливавшая розовым в утренних лучах и сверкавшая голубизной при лунном свете. И даже наша крыша волновала чувства. Она была покрыта черепицей в испанском стиле – терракотовыми плитками, изогнутыми, как женское бедро.
Дом в форме латинской буквы «L» выходил на улицу задней стороной с окнами, закрытыми ставнями. Комнат в доме имелось бесчисленное множество. Окна их смотрели на галерею или на внутренний дворик, который свидетельствовал о многолетнем экспериментировании с посадками. Наряду с апельсинами, лимонами, персиками и гранатами здесь росли бамбук, персидская сирень и различные виды пальм. А также фиговое дерево и одинокий виргинский дуб. Кухня, отделенная от главного здания надежным расстоянием, стояла в тени испанского каштана, плоды которого мы жарили и запивали их лучшим вином, какое только могли достать.