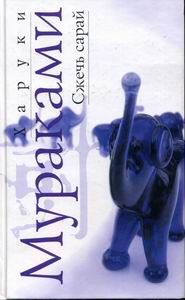– Если бы из меня душу вынуть, мне бы сносу не было.
– Без души ты был бы мне не нужен.
– Эта манера загорать без лифчика… Скоро вообще на женщин смотреть не захотим.
– Только немки и шведки, гречанки вообще в закрытых купальниках.
– Молодцы, Афродита должна быть экономной. А ты хотела бы быть… – Я собирался спросить – “гречанкой”, но какое-то отмершее озорство дрогнуло во мне, и я закончил: – Греком?
– Греком?! – как будто я предложил ей стать медведицей. Хотя ведь и в волшебных превращениях пол остается инвариантным: парень – в медведя, девушка – в медведицу.
– А что, разве ты не хочешь стать мужчиной?
– Да ну его, вам ведь положено что-то представлять из себя. А мы всякие сойдем.
Чтобы окончательно забыть о себе, мне хотелось убраться подальше от всех зеркал. Бездумье безлюдья манило на излом волнореза, сложенного из обломков олимпийских скал. Но, спускаясь по глыбам в колыхающуюся нирвану, я тут же наступил на какого-то морского ежа. Когда моя сердитая медсестричка сверкающей иглой извлекала из моей пятки черные иглы, воображение внезапно взорвалось: вот нарывающая нога не дает мне ходить, купаться, тянет обратно в жизнь… “Ну почему мне так не везет?..” – я буквально едва удерживал слезы. “Потому что ты все любишь делать по-своему”. Но сошло, позволило забыть о себе.
Прохлаждались мы среди мехов – зеркала, эр-кондишн, метакса с шипучкой (я прямо пристрастился), гостеприимные приказчики: застенчивый химик-технолог Марина из Подмосковья, вдумчивый экономист Гавриил из Кишинева, гусаристый Тадек из Варшавы, зауважавший меня за то, что я знал “Пана Тадеуша”, но рассудительности не потерявший: “Не бывает, чтобы все люди были хорошие”, – а значит, и шубы должны иметь проплешинки – тут же закрасить пульверизатором, прорешинки – тут же подштопать.
Ужасно жалко, что самое отвратительное – соперничество – может быть изгнано из жизни лишь вместе с самой жизнью… В нынешнем мире дуракам вроде меня главное – не считать себя умнее других, не искать нехоженых троп. В Салониках я разнюхал торговую щель с баснословно дешевыми “хвостиками”, а это оказалась “летняя норка”, сыпучая, как перезрелый одуванчик. К счастью, хозяин
(усы, пузо – ну, Сухуми и Сухуми) оказался так добр, что согласился взять обратно всего на каких-то восемьдесят марок дешевле.
Зазывалы зазывали нас на олимпийские меховые фабрики – черпать из самого чистого источника; мы съездили, посмотрели с моста на быструю плоскую речку среди сросшейся зелени – в прозрачной воде, как в садке, бродили крупные рыбины. Потом сорганизовалась другая группа; их автобус остановили автоматчики в масках, прекрасно владеющие русским разговорным, и у всех изъяли от двух до пяти тысяч баксов. Но мы, солдаты, не размышляем о пуле, уложившей соседа. Моя мартышка вертится перед зеркалом просто
“для себя”, примеряет даже недосягаемые “целиковые” шубы и шубки, поводит плечами, как манекенщица. Загар, меха, отсветы зеркал – она вспыхивает совершенно ослепительной красотой. Хотя меня теперь не ослепишь, я, прагматичный андрон, толкую лишь о ценах на шубы из хвостиков, лобиков (панцирь из полумесяцев) и даже “из сердца” – гистерезистые петли, нарезанные из грудок бедных зверьков. Но что вы хотите – это жизнь!
Прохладный душ, она, якобы забыв халатик (шедевр тускнеет без ценителя), забегает из ванной в одном лишь купальнике из двух светящихся полосок. Отретушированная загаром – со сдвигом к углю, а не к шоколаду, – фигурка у нее вообще закачаешься. Чем мы тут же и… Но пора безумной акробатики миновала, временами мы замираем друг в друге, словно погружаясь в глубочайшую задумчивость.
Снова расслабленный душ, затем прохладный ланч и сиеста, до предвечернего заплыва погружающая в блаженную очумелость. Затем сверкающая тьма, недра ресторанов озаряются магниевым светом, слепит глаза от пестроты и беззаботности, нарядная толпа заполняет улицы, где даже в толчее никто никогда ни на кого не повышает голоса; завершающая прогулка по меховым угодьям, ужин, явление ночного моря (серебристый бурьян напоминает нам самый дешевый мех – “опоссум”), безопасная замкнутость номера, хорошая, но, помилуй бог, не гениальная книга, упражнения на батуте, сладостное безразличие засыпания, когда ничего не надо в себе глушить изнеможением – все и так приглушено.
Вчерашний сержант ВДВ под дико стильный фокс “Э, Стамбул, в
Константинополе…” бледнеет у стеночки: щербатый шпаненок стряхивает пепел на его сияющие корочки, а зрелые блатари сквозь семенящие пробежки танцующих пар внимательно наблюдают, хватит ли у него дурости щелкнуть шибздика по носу – на Механке это звалось “подпустить мандавошку”. Греция тоже подпустила нам мандавошку: на мертвенно сияющем прожекторном пятачке среди жаркой тьмы мы тянемся почетным караулом вслед усатой шмакодявке в форме. Шмакодявка пробегает в таможенную витрину, бешено расшвыривая коротенькими ножками наши любовно охваченные портупеями скотча черные пластиковые посылки с хвостиками и лобиками, скрученными с улиточным совершенством: распаковать – до утра не уложиться, а утром – из Софии самолет… “Нас это не…” – мы понимаем и по-гречески. Классическое образование и бородка клинышком позволили бы нам разве что часом раньше уяснить, что у нас нет доказательств, платили мы драхмами или долларами. За пару суток мы, пожалуй, и объехали бы меховые лавки, которые удалось бы припомнить, и хозяева, радушно улыбавшиеся нашей зелени (в смысле неосведомленности), пожалуй, выписали бы нам нужные справки (самолет – тю-тю), но наша греческая виза истекла три часа назад. Что нас ждет – штраф, конфискация, тюрьма, – никто не знает, но для души, сорвавшейся с цепи, вновь обретшей крылья, никакая определенность осуществившегося даже близко не бывает столь ужасной, как безбрежность возможного.
– Как по-гречески “геморрой”? – идет скандалить Гренадер-баба.
– Это греческое слово, – поражаю я коллег. – Кровотечение.
Усатик гаркнул, как Геракл: вот что творило богоравных героев из удальцов районного масштаба – необузданность человека фантазирующего, когда он напуган или восхищен. Притихшая
Гренадер-баба – это жутко, как зрелище замершей Ниагары.
Постепенно безнадежность поглощает всех: кто впадает в каталепсию, кто цедит в крышку от термоса сердечные капли, кто бредет в туалет – это пока еще разрешено. “Я бы сейчас спокойно спала, если бы ты не дергался”, – пытается ввести в берега мою безмерность мудрая сиделка, алебастровая от прожекторов и бессонницы, и у меня хватает героизма отдаться безграничности одиночества, я отправляюсь скитаться по нейтральному асфальту.
Вычерчиваю хаотические петли Лиссажу, по двадцать, тридцать, сорок раз заглядываю в туалет и фри-шоп – здесь больше некуда укрыться хоть в какую-то ограниченность. Унитазы гудят внушительно, как трансформаторы, никелем и кафелем сортир напоминает пекаренку из страны забвения, оттуда же выглядывает головка метаксы, на миг раздвинув безжалостное полнокровие фалернского и фессалийского, удвоенные зеркалами, сверкают три тысячи сортов виски и шоколада, ряды электробритв скалят черные зубы с нержавеющими пломбами… Какая страшная сверкающая элегантность, сколько в мире вещей, ненужных человеку!..
На залитую прожекторами сцену вплывают и с ревом уносятся во тьму огромные трейлеры с надписью “Amsterdam”, “Istanbul” – декорации прохудились, бесконечность свистала из всех прорех. А среди бездны мне выгородили загончик колючей проволокой. Вдоль шлагбаума прохаживается солдат в незнакомой форме, держа скорострельную винтовку поперек поясницы. Броситься на проволоку, короткая очередь – но нельзя. Нет такого варианта.
Под агавами, как чумаки, сидят негромкие украинцы. Сидять вже месяць – неправильно оформилы паспорта, а назад вернуться не на что. Оказывается, и так жить можно.
Черная тьма превращается в предрассветную мглу, проступают, потом начинают розоветь горы. Выходят солдаты причесывать грабельками и без того отлично взбороненную черную землю меж двух колючих оград. А померкшие звезды складываются во что-то снисходительное: мы тянемся подписывать, что не имеем претензий,
– подумаешь, самолет – пешком доберемся, – тогда нас отпустят.
На греческом ничего подписывать нельзя: может, ты признаешься, что наркотики вез, предупреждают все друг друга, и все подписывают. Вот видишь, с нежностью не матери, но бабушки поглаживает мою руку неумытая, подзапухшая няня, и мы с воплями бросаемся за автобусом – нравы у нас товарищеские, если бы не шлагбаум, мы остались бы под агавами.
Гонка по быстро накаляющимся Балканам, дымок растаявшего самолета в плавящемся небе, на поезд нет ни билетов, ни денег, продаем (своим же) одного опоссума (какие-то бабки за пропавшие авиабилеты обещает выцарапать болгарская сторона). Общага, совместный душ, безразличный, как в блокадной вошебойке, но у нас с Их Высочеством разные интересы, а Они главнее. Два часа мертвецкого слипшегося сна, очумелая София, что-то византийское, что-то псевдовизантийское, скромные дворцы, скромный мавзолей