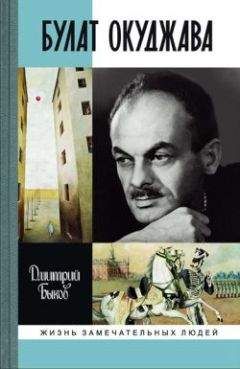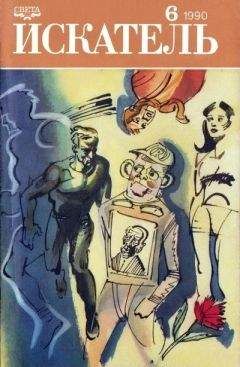Каковы же причины формирования феномена «Вестфальской» России? Почему с распадом тоталитарного имперского государства, провозгласив десять лет назад в качестве приоритетов новой России гражданские права и свободы, мы вместо чаемого государства правового, вместо новой, демократической региональной политики получили конгломерат авторитарных этнократических образований, слабо подчиняющихся центральной власти? Рассматривать фразу, обращенную некогда Ельциным к российским региональным начальникам: «Берите столько суверенитета, сколько можете проглотить» — в качестве отправной точки дезинтеграции России стало уже привычным делом. Но это слишком просто, чтобы быть правдой. Куда больше для возможного распада России по сценарию распада Советского Союза сделало последнее руководство СССР и КПСС, стремившееся любыми способами убрать с политической сцены «неправого Бориса». С помощью Закона о выравнивании прав союзных и автономных республик от 26 апреля 1990 года советские вожди пытались вывести руководителей автономий РСФСР из-под власти Ельцина под горбачевскую длань. Подобный «ход» использовался руководством СССР и в начале чеченского кризиса, когда новоявленному ичкерийскому вождю была предложена альтернатива Ельцин — Горбачев. Однако объяснять внутрироссийский «парад суверенитетов» одними горбачевскими происками значило бы также идти по пути упрощенчества.
Дезинтеграции России в немалой степени способствовали и «идолы разума», овладевшие советской, а затем и российской интеллектуальной элитой, «творцами смыслов». По справедливому замечанию московского этнолога В. Р. Филиппова, «в первые годы горбачевской „перестройки“ московские энтузиасты демократических преобразований (так же, впрочем, как и большинство интеллектуалов на Западе) допустили серьезную ошибку, которая имела в дальнейшем самые неприятные последствия для российской государственности. Ошибка состояла в том, что они отождествили борьбу за власть этнических элит в советских и постсоветских „национально-государственных образованиях“ с общедемократическим движением против советского тоталитаризма». Очередная попытка России осуществить модернизацию вызвала всплеск традиционализма и политической архаики. Ценности рыночной экономики, гражданского общества и правового государства были отвергнуты не только и не столько экс-секретарями комитетов КПСС различных уровней, сколько лидерами возникших под общедемократическими лозунгами движений за самоопределение, «возрождение» национальной культуры и искусства, возврат к «истокам и корням». Отказ руководства СССР и России от коммунистической идеологии и политическая либерализация повлекли масштабную переоценку ценностей. В регионах с устойчивой традиционалистской культурой (Северный Кавказ в особенности) разрыв с советским прошлым совпал с этнической, клановой, тейповой мобилизацией. Перестав быть homo soveticus’ами, бывшие подданные советской империи занялись конструированием новой идентичности и обратились вспять, к «золотому веку», в поисках ответов на актуальные вопросы современности. «Золотым веком» на Кавказе была сочтена эпоха «наездничества», борьбы тейпов и кланов, торжества «справедливой» кровной мести. Поэтому самые, казалось бы, невинные начинания, даже в сфере культурного возрождения, будь то реконструкция народных обычаев или восстановление исчезающих традиционных ремесел, совершенно неожиданно радикализируются и получают выход в сферу политической конфронтации, а то и военного противостояния. За рассуждениями о духовном возрождении (культурном или религиозном) оказывается потребность в региональной самостоятельности и обособлении определенных территорий.
Поскольку идейные поиски интеллигенции в национальных республиках встречали противодействие со стороны КПСС, видевшей в них угрозу своей идеологической и политической монополии, следствием подобного противоборства и стала неверная идентификация движений за «возврат к истокам» как движений демократических. Между тем традиционалистские искания республиканских оппозиционеров, несмотря на антикоммунистическую риторику, никакого отношения ни к либерализму, ни к демократическим ценностям (в современном их понимании) не имели. Они начались как попытки придания своей этнической культуре статуса уникальной цивилизации, а своему этносу (тейпу, клану) — роли вершителя исторических судеб.
Наиболее радикальная (и удачная для деятелей национального «освобождения») попытка прорыва к политическому Олимпу имела место в Чечне. Успех сепаратистов именно в этой республике Северного Кавказа объясняется прежде всего двумя причинами: агрессивно-наступательным характером чеченского национального движения и неверной оценкой этого движения Москвой. Рассматривая ОКЧН (Объединенный конгресс чеченского народа) как антикоммунистическую организацию, а генерала Дудаева как диссидента, Москва сначала проигнорировала традиционалистский вызов, брошенный новой, демократической государственности, а впоследствии неоднократно недооценивала силу этого вызова. Видя в коммунизме главную и единственную опасность, угрожающую развитию рыночной экономики и гражданского общества, российские власти во многом способствовали превращению РФ в «сообщество регионов», в котором региональный руководитель самостоятельно и без демократических процедур выбирает и образ правления, и политический строй, и экономическую доктрину.
Центробежным тенденциям весьма способствовала политическая либерализация, которая, как сказано выше, снимала преграды в нацреспубликах (и в меньшей степени в областях и краях) на пути этнической (клановой, тейповой) мобилизации и поисков собственной идентичности. С крахом СССР и коммунистической идеологии региональные элиты начали искать собственные идеологемы. «Почему следует российские реформы брать за эталон? Разве не имеет право Татарстан идти своим путем к реформам, отвечающим интересам его населения? Или в мире существует только один путь, предложенный Москвой?» — заявлял в 1995 году советник М. Шаймиева Рафаиль Хакимов. Поскольку же российские республики, края и области никогда не придерживались в ежедневной социально-политической и социокультурной практике принципов европейского Просвещения, Декларации независимости и постулатов Адама Смита, то результаты их идеологических поисков можно было легко просчитать.
Превращению России 90-х годов в «сообщество регионов» помогли и такие параллельные процессы, как сложившееся в центре в 1991–1993 годах двоевластие (Президент и Верховный Совет) и нерешенность «основного вопроса всякой революции — вопроса о власти». Не разрешив кардинально вопрос о стратегическом пути, по которому пойдет государство, образовавшееся в результате августовской революции, браться за «замирение» окраин было бы верхом политического легкомыслия. Видимо, из подобного постулата исходил первый российский президент, предлагая регионам взять побольше суверенитета. Проще говоря, выбирая между «покупкой» (и недешевой) региональных баронов и их силовым «замирением», Борис Николаевич остановился на первом. Ельцинскую региональную политику, следствием которой стала дезинтеграция страны, не ругает только ленивый. Но мало кто из аналитиков понимает (или желает понять) тот факт, что первый российский президент «делился» суверенитетом не из-за жгучего желания превратить Россию в сообщество регионов, а по причине отсутствия у него в 1991–1992 годах и правовых, и силовых механизмов для обуздания региональной вольницы. Главным, чего он добивался, была внешняя лояльность и умение сдерживать на подведомственной территории национал-коммунистическую оппозицию, с чем местные начальники худо-бедно справлялись. Обвинять же Ельцина в потворствовании региональному партикуляризму можно лишь при одном условии: если гипотетический обвинитель готов назвать те ресурсы, за счет которых президент смог бы могучей рукой подавить местную вольницу. Действительность же была такова, что ни правовых механизмов (поскольку российское законодательство надо было создавать с нуля), ни силовых рычагов (МВД и органы безопасности переживали реорганизации, а армия России, напомню, была создана лишь весной 1992 года) у российского главы не было. Но в отличие от Горбачева он вел разговор (и успешный) с региональными баронами не на языке романтического догматизма о непреходящих социалистических ценностях, новом мышлении и прочих благоглупостях, а о вполне земных вещах — власти, собственности, личных гарантиях. Получив свою долю «общероссийского пирога», региональные вожди, периодически фрондируя (особенно в моменты ослабления федеральной власти), все же отказались от повтора беловежского сценария. Успехи же федерального Центра в преодолении двоевластия (октябрьская победа Ельцина в 1993 году), укрепление самой центральной власти делали региональных баронов сговорчивее. До октября 1993 года невозможно было даже помыслить о силовом замирении Чечни. Борьба с ичкерийским сепаратизмом, а также смягчение позиций посткоммунистических воевод и в конечном итоге выдвижение тезиса об «укреплении властной вертикали» — все это оказалось реальным во многом благодаря «похабному миру», заключенному в начале 90-х годов между Ельциным и региональными элитами. Не видеть той политической основы, благодаря которой стало возможно само обсуждение такой темы, как укрепление политического единства государства, могут только не вполне добросовестные конструкторы виртуальных «технологичных» комбинаций.