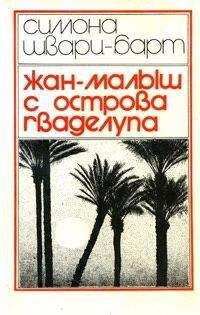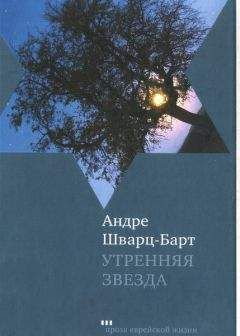— В самом деле, мальчик мой, что тебе известно?
— О чем? — спокойно осведомился Жан-Малыш.
— О духах и богах, о разных колдовских силах — разве в Африке тебе о них ничего не говорили?
— Ничего, — ответил Жан-Малыш после короткого молчания, — от меня все скрывали. Я знаю, знаю, конечно, что великая таинственная, добрая или злая Сила везде и во всем, даже в звоне комариного крылышка, знаю я и то, что за лесом простирается залесье, за миром кроется другой мир, что существует множество неведомых сил; вы об этом спрашиваете, учитель?
— Увы, не об этом, — сказал старый Эсеб. — Я хотел узнать, не осенило ли тебя в пути какое-нибудь откровение, но теперь вижу, что невзгоды лишь отчасти прочистили тебе уши. Хочу тебя предупредить: если ты готов к испытанию, комната эта сейчас станет полем неравной битвы, в которой ты вряд ли победишь. Если предположить, что ты Тень лишь наполовину, то затаившуюся у тебя в семени Смерть изгнать будет нелегко. Она призовет на помощь всю свою хитрость, всех своих приспешников, и в первую очередь того, кто живет в тебе самом…
— Кто же этот приспешник Смерти?
— Страх, — сказал старый Эсеб.
— А что я должен делать, когда окажусь с нею с глазу на глаз? Вы скажете мне, учитель?
— Ничего, сказал Эсеб. — Ты только должен заставить плоть свою молчать, должен стать невидимым и неслышным, как ночной зверь…
— Я прикинусь ночным зверем, — сказал Жан-Малыш.
Эсеб заставил его лечь на спину, вытащил из своей сумы кусок мела и начертил вокруг путника, идущего навстречу Смерти, контур маленькой лодки. Потом он вложил ему в руки мушкет, котомку матушки Элоизы, содержимое которой он внимательно изучил вещь за вещью: нож и пороховницу, кремень и деревянный штырь, остаток проволоки для силков и последнюю серебряную пулю, ту, что герой хранил как зеницу ока. Старый Эсеб все пританцовывал, будто ноги у него не стояли на месте, он весь светился какой-то загадочной радостью, то и дело гортанно покряхтывал и, наконец, придерживая руками шляпу, готовую, казалось, вспорхнуть и улететь, весело воскликнул:
— Посмотрите-ка, люди добрые: наш Жан-Малыш отправился туда, откуда берут начало все миры, а захватил с собой в дорогу лишь птичий силок!..
Старик завороженно уставился на десятки баночек, пузырьков, кожаных мешочков, пакетиков сухой травы, ровными рядами расставленных на полу, будто посуда у образцовой хозяйки, потом он обнажил грудь и ткнул под сердце кончиком короткого кинжала…
Собрав кровь в миску, он бросил в нее щепотку порошка из позеленевшего, ссохшегося кожаного мешочка. Затем опустил в миску палец и провел им, словно кистью, по векам, ладоням и ступням Жана-Малыша, а потом коснулся смоченным кровью перстом дверных и оконных проемов. Ранка на груди уже не кровоточила, а самого Эсеба вдруг заволокло облако пара — щеки, плечи его так и дымились, будто он только что вышел из бани. Он подсыпал в миску еще горстку порошка, потом еще и еще, кровь забурлила, светлея вокруг каждой щепотки, пока не стала вся прозрачной, как чистая вода. Тогда он сел у края маленькой, нарисованной на полу лодки и, испуская из черной дыры рта клубы легкого голубоватого дыма, сказал:
— Я наглухо замкнул эту комнату с четырех сторон, начертал на твоем теле знаки света. Сейчас я дам тебе выпить эту кровяную воду. Так вот, послушай: тебе сказали, что за лесом лежит залесье, это так. Но знай, что и в самом лесу скрываются другие леса. И в этой комнате заключено много миров, и в каждом из них ждут своего часа неведомые Силы, готовые вырваться, чуть прорвись разделяющая миры перегородка: такое случись с Чудовищем и сейчас случится с тобой, когда ты провалишься будто слепой щенок в черную пропасть.
— Что я должен делать? — спросил Жан-Малыш.
— Ничего ты не должен делать, и Силы не тронут тебя, замрут возле самого сердца. Но стоит тебе шелохнуться, хотя бы вздрогнуть от испуга, и они воспользуются твоей слабостью, набросятся и уничтожат…
— А Смерть, — спросил еще Жан-Малыш, — как я должен обращаться с нею?
— Никак, — отрезал тот, поднося миску к губам Жана-Малыша, которого удивили прозрачность и вкус напитка: чуть терпкая, солоновато-горькая вода с легким привкусом полыни…
Сперва Жан-Малыш почувствовал холод, который все усиливался, нарастал и вдруг, достигнув предела, сковав тело льдом, превратив саму кровь в колкие кусочки льда, уступил место столь же невыносимому жару. Глаза застлала розовая пелена, лишь лицо Эсеба маячило перед ним — пепельно-синее, со светлыми бликами на скулах. Ему вдруг почудилось, что где-то распахнулось окно и в комнату ворвался неудержимый вихрь, он обдал его ледяным холодом и обжег, будто раскаленный пепел. Испуганно приподняв локоть, он обратился к старому Эсебу:
— Учитель, не надо ли закрыть окно? Колдун осторожно опустил его локоть на место.
— Молчи, это Силы Тьмы…
И, видя, что Жан-Малыш, не понимая, разинул от удивления рот, Эсеб едва слышно произнес:
— Окно распахнулось в твоей груди…
А вихрь в комнате тем временем совсем обезумел, завывал так, что казалось, стены вот-вот рассыплются.
В животе Жана-Малыша открылась щель, когтистый ветер медленно раскрывал рану все шире и шире, прошло бесконечно долгое время, и наш герой не выдержал, соединил пальцами края рваной бреши и простонал:
— Учитель, я больше не могу этого вынести…
— Итак, ты хочешь сдаться, — сказал Эсеб.
— Учитель, в мое чрево проник вихрь, он вот-вот унесет меня; бросьте мне веревку, я буду за нее держаться.
Голос Эсеба стал совсем далеким и глухим, в диком вое ветра он был едва слышен:
Никакая веревка тебя не удержит, лишь разум может тебя спасти. Слушайся его, сын мой, и только не жалуйся на судьбу, даже в душе не жалуйся, не уподобляйся тем, кто чуть что начинает визжать, как поросенок так визжать, что на краю света слышно; но, если станет невмоготу, можешь произнести несколько слов, только тихо…
— Каких слов? — взмолился Жан-Малыш.
— Да любых, лишь бы они были сказаны мне спокойно, будто ты опираешься на плечо друга; ты только не кричи, не кричи…
— Учитель, я унесся далеко, и мне не хватает слов…
— Вздохни посвободней и не спеша повторяй за мной ровным голосом:
О дух земли
Великий необъятный дух
Взываю я к тебе
И ты меня поймешь
Ночною птицей я лечу
А говорю как человек
Взываю я к тебе
И ты меня поймешь…
С заклинанием слилась светлая мелодия, в которую вплелись далекие удары тамтама, принесенные вечерним бризом вместе с запахом трав Варфоломеевой горы. Жан-Малыш как раз отрывал прилипший к телу листок, когда услышал эту музыку. Он тотчас опустил наземь котомку матушки Элоизы и замер, стараясь вслушаться в песнь, лившуюся в уже потемневшей долине. Там, далеко-далеко, блестело в лучах заката зеркально-красное плоское блюдо Верхнего плато, а над землей, плыли последние звуки бесконечно грустной и бесконечно величественной песни, которая раз и навсегда распахнула перед его детской душой двери в иные миры. Но голос уже затихал, дробь тамтама таяла в вечернем воздухе, и от солнечного фейерверка осталась лишь узкая полоска света — щель между двумя почти сомкнувшимися створка ми гигантских небесных ставней. Потрясенный герой увидел старого Эсеба, сидевшего, как и прежде, у края нарисованной мелом лодки с поджатыми под себя ногами; по комнате разлилась могильная тишина, которая, казалось, пугала колдуна: он судорожно сжал руку простертого на полу героя.
— Теперь я уже бессилен помочь тебе, — сказал он, а из-за горизонта вдруг начала подниматься исполинская черная тень.
Одна челюсть звероподобной тени уходила под облака, другая скользила по асфальту улиц, готовая подцепить все что окажется на пути. Глаза ее застилала матово-белая пелена, а огромные зубы были прозрачны, как стекло. Жан-Малыш схватил мушкет, забросил на спину котомку и очертя голову кинулся прочь по пустым улицам города, а Смерть с разверстой пастью гналась за ним по пятам. Его опавшие крылья волочились по асфальту, он метался от дома к дому и кричал: «Я Жан-Малыш, пустите же меня, пустите!» Но двери оставались наглухо закрытыми, и он мчался дальше, гонимый тяжким ледяным дыханием, которое пронизывало ему спину, поднимало в воздух смерчи острых песчинок. Добежав до моря, он увидел чернокожую женщину, стоявшую в воде в нескольких шагах от берега: она простирала к нему пленительные руки. Лицо ее заволакивал тонкий, поднимавшийся от щек пар. Но было что-то теплое, до боли знакомое в черном великолепии этого тела; ее косы тяжелыми кольцами охватывали живот, будто прикрывая целый выводок присмиревших в материнском чреве, за полупрозрачной кожей, детей — может, пять, может, шесть, а может, и целая дюжина их сплелась в комочек, плотно сжав ротики, терпеливо ожидая, когда им позволят появиться на свет. На губах ее играла едва заметная улыбка, улыбка женщины, которой известно, что ее любят, любят страстно, что ради нее пойдут на край света, спустятся в Царство Теней… и у Жана-Малыша брызнули из глаз слезы, он бросился в морскую пену, рыдая, как дитя: почему ты покинула меня, бросила у фигового дерева, почему?