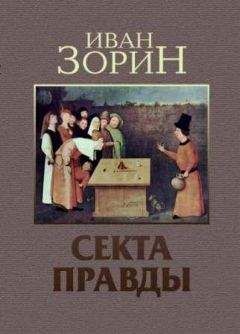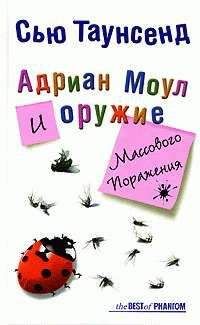Ночь. Ты бредёшь, сгорбившись, в её чреве, спотыкаясь в кромешной тьме. Одинокий, плутаешь во мраке, путаясь в лабиринте улиц и мыслей. Эй, кто ты? Откуда? Куда идёшь? Нет ответа. Лишь шорохи всевидяще слепой ночи да шёпот исписанных при догоревшей, как жизнь, свече, а после скомканных в бумажные шарики листков, которые катит по пустым тротуарам холодный бессмысленный ветер.
Что же ты бродишь, как призрак, когда все вокруг спят? Зачем пугаешь и будишь их? Разве ты что-нибудь потерял? Быть может, жизнь. Значит, ты её ищешь? Значит, ещё не нашёл? А хоть что-то взамен? Так, пару метафор, небывалых доселе сравнений, дюжину ловких синекдох, да с десяток фантазий. О, Боже, как мало! Значит, ты, странник, пришёл в эту ночь, длинную-длинную, как коридоры чиновников, где присутственное время уже истекло и служилый люд второпях снимает с вешалок замызганные шинельки свои, чтобы поскорее освободить сей важный департамент, который, пустея, будет теперь, как медведь зимой, погружаться в долгую беспробудную спячку, значит, ты явился в эту длинную и жуткую ночь только затем, чтобы отыскать здесь нечто неуловимое и мимолётное, как розопёстрая бабочка, которая вот только что под утро разорвала непрочный кокон и расправила чудесные крылья свои, или то недоступное, что неведомо где и существует, как цветок папоротника, что каждый раз на Ивана Купала неутомимо ищут полные надежд и веселья, ещё не растратившие их в бешеном, изнурительном хороводе чубатые парубки и ясноокие дивчины? Ты пришёл сюда встретить то, что непременно завянет днём, что замнут и затаскают грубые руки, то, что скоро, скорей даже, чем ты думаешь, сотрётся в общем гомоне языка. Посмотри, как жадно, словно огонь поленья, пожирает он всё, что ни попадётся ему! И как злобно хохочет при этом искристое пламя! Видишь? И это вместо собственной жизни? Ах, как глупо! И печальное, вторит тебе из угрюмой ночи гулкое эхо: «Глупо…»
И действительно, ужасно глупо, словно безумный, на белые и мёртвые, как волосы седого казака, страницы наносить письмена своей души. Ведь даже с частицей души они всё равно мертвы. Мертвы! Эх, Николай Васильевич! Сжечь бы в раскалённой докрасна печке все эти мёртвые души! А? Страсть как хочется! Сразу и без мучений. Без проклятой стариковской слезинки, что медленно ползёт вдоль уныло повешенного в нездешней печали сиранодебержераков-ского носа и, стекая, капает на скрипучие половицы, без всяких этих постыдных всхлипов и гаденьких, словно бы сморкаешься, рыданий. Одним махом! Или нет? Может, не стоит? Может, всё-таки не надо? Э, да бросьте вы, пройдёт!
Пройдет, разлюбезный собрат, Николай Васильевич! Вон уж слышно, как скрипнуло перо ваше — обмакните его скорей в чернильницу, а родись вы чуть восточнее, так опустите кисточку в тушечницу да заверните историю так, как заворачивают пироги на ярмарке в Сорочинцах (так славно пироги умеют заворачивать только у нас на Руси, когда все кругом стоят обалдело, разинув рты, да чешут затылки, приговаривая: вот эдак завернул! завернул, так уж завернул!), да заморочьте бедные головушки всем этим евлампиям никанорычам и аристархам феофилактычам, которые только и делают, что чаёвничают, откушивают, потчуются да изволят почивать, как в своё время, в отрочестве заморочили вашу драгоценную голову истории всяких геродотов и полибиев. Ишь, выискались щелкопёры, бумагомараки греческие!
«Да что толку морочить-то? — спросит вдруг кто-то недовольным голосом и нахмурит строгие брови свои. — И так все кругом врут!» Но не поддавайтесь, милый Николай Васильевич! Не поддавайтесь! Лучше очертите вокруг себя мелом, и да оградит этот круг вас от страшных подземных голосов, от сурово насупленных бровей и глаз, что скрывают железные веки! И, бога ради, не отвлекайтесь!
О, я и так вижу, как вы криво усмехнулись в тонкий рот свой, выводя: «И гордый гоголь быстро несётся по нём…» — я-то знаю, что вы тогда подумали острым умом своим.
Ну что ж, неситесь, Николай Васильевич! Плывите по волнам буйного своего воображения, и пускай вас подгоняет ветер из словечек, которые позаковыристей, и ни с чем не сравнимых оборотов речи! Пусть пронесётесь вы гоголем по незашелохнувшемуся речному зеркалу мимо сереньких уток-качек, мимо краснозобых курухтанов, мимо куликов и мимо злобно притаившегося в густых камышах охотника, который, как ни целится, обязательно даст промах и в досаде на неумелость и всем очевидную бессильность свою, топая сапогами в болотной жиже, будет ещё долго потом кричать и ругаться, плюя вслед, браня и пороча ваш изысканнейший полёт! Счастливого вам пути! Счастливого вам пути и там, где, наверное, уже не встретишь никаких охотников, где уже нет ни куликов, ни звонких лебедей, ни всяких иных птиц, что водятся здесь в тростниках и на прибрежьях, нет там, наверное, и дорог, по которым летают птицы-тройки с отчаянными ямщиками, перед которыми все расступаются, ни бричек со степенными кучерами, от которых редко когда дождёшься окрика: «Эй, залётные!», нет ни Миргорода с его развешенными на плетнях глиняными горшками, ни пасечника Рудого Паньки, ни галушек в сметане, нет даже самой Святой Руси, а есть только одна ночная мгла, которая заволокла и заполнила всё тамошнее пространство.
Чу! Слышите, как в этой раскинувшейся над миром, распростёртой, словно гигантское бездыханное тело, тихой, но и не украинской только, а даже выходящей далеко за бескрайние пределы украинские, ночи кому-то не спится? Пишущий человек! Исполнись высшей силы и переложи эти ветхие, как платьишко титулярного советника, буквы в новом порядке, настрой их на новый лад так, чтобы слова, как опытнейший в импровизации музыкант, сами бы нажимали на клавиши, что торчат в мозгу у читателя, заставляя их наигрывать ту единственную и дорогую, словно колыбельная, под которую баюкала его в люльке любимая матушка, вечно юную мелодию, да так зачаруй его трепетными звуками её, чтобы, остолбеневший и обомлевший, он только бы и смог, что промолвить самому себе потаённо и в изумлении: «В искусстве — Бог!»
ПОЭМА В ТРЁХ СНАХ
2
то утро Матвея Дрока разбудила неясная тревога, которая не покидала, пока он собирался на работу. Он стоял с намыленной кисточкой перед зеркалом и видел в нём своё одиночество. Была весна, которую Дрок уже много лет не отличал от осени, и на проталинах цвели ландыши, которые он путал с первым снегом.
Дрок работал в риэлтерской конторе и думал, что каждому выпадает своя порция безумия. Когда-то ему представился случай, бросив всё, уехать далеко-далеко, за тридевять земель. Но он не поехал. И теперь часто думал, что каждое мгновение продолжает куда-то не ехать.
Жена Дрока своим единственным недостатком считала отсутствие недостатков. «Живи не по заповедям, а по формуле, — учила она, возвращаясь с курсов по восточной медитации. — Эта формула у каждого своя и называется «Как стать счастливым»». «Свой счёт заморозь, а живи за чужой!» — читал на её лице Дрок. А когда развёлся, взял за правило ни о чём не жалеть и ни к чему не стремиться.
Повязав галстуком накрахмаленную рубашку, Дрок заправил её в брюки и, нагнувшись, зашнуровал ботинки.
На дороге было оживлённо, Дрок пристроился за автобусом с табличкой «ДЕТИ» на заднем стекле. На перекрёстке автобус резко затормозил, и Дрок уткнулся в его заляпанный грязью бампер. Из кабины вылез водитель, годившийся Дроку в сыновья. «Царапина», — окинул он быстрым взглядом машину и жестом пригласил Дрока в кабину. Дрок поднялся, водитель сел за руль. Передняя дверь со скрежетом закрылась, а через заднюю выскочил рыжий парень. Дети на сиденьях не шевельнулись. Автобус тронулся, и в боковом зеркальце Дрок увидел свою машину, которую вёл рыжий. Дрок растерялся:
— Меня похитили?
— Это большая честь, — бросил через плечо шофёр. — Многих похищают?
Дрок машинально мотнул головой.
— Вот видишь!
Дрок был сбит с толку.
— Но это противозаконно.
Его встретило глухое молчание.
— Вы слышите, я не хочу!
На мгновенье Дрок осёкся. Он посмотрел вглубь автобуса, где с дырчатых полок свисали чемоданы.
И куда мы?
А не всё ли равно? Разве ты что-то забыл?
И Дрок опять прикусил язык. Несколько минут он стоял в оцепенении, а потом достал последний козырь:
— Меня станут искать. Водитель ухмыльнулся.
И, поняв, что проиграл, Дрок опустился на ступеньку. Мелькали городские улицы, зевали арками серые здания.
— И когда меня отпустят? — завёл Дрок старую песнь.
— Вот и поговорили, — вздохнул водитель, — «Я лечу!» — сказала муха, «Я лечу!» — ответил врач.
Дрок пожал плечами. Отвернувшись к окну, он дождался, пока выехали за городскую черту, потом сосчитал до пяти и произнёс как можно спокойнее:
— Но я планирую.
— И я планирую! — перебив, расхохотался шофёр. Отпустив руль, он развёл руки в стороны, как самолёт.