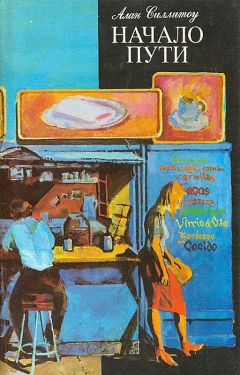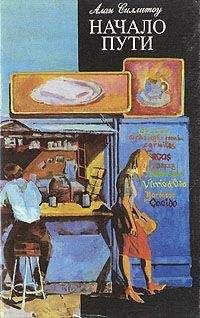Мальчик, с которым Кэтрин встречалась за два года перед тем, вернулся, и у них все началось сначала. Через месяц он опять уехал, и тут оказалось — она беременна. Мы не знали, что делать. Она была в ужасе и совсем пала духом. Мы часами обсуждали, как быть: попытаться разузнать, как избавиться от будущего ребенка, или признаться родителям, а может, ничего им не говорить, уехать в университет и родить тайно. Проходили недели, и мы даже составили хитроумный план, как нам обеим покончить с собой. Можно было подумать — я тоже беременна. В конце концов мы поступили так, что хуже не придумаешь. Мы решили бежать из дому.
У нас набралось семьдесят фунтов, и мы решили уехать в Лондон, снять комнату, поступить на службу и все, что заработаем, складывать в общий котел. Можно было подумать, что Кэтрин уже не беременна, — мы так рвались уехать, что почти забыли об этом. Мне взбрело в голову ехать в Лондон на отцовской машине. Иной раз вечером наши родители навещали друзей в другом конце города — значит, на машине мы должны были выезжать вечером. Кэтрин еще раньше немного училась водить машину и водила неплохо. А я не умела.
Мы наспех упаковали чемоданы и сунули в машину, Кэтрин вывела ее через открытые ворота, и мы чуть не расхохотались — таким легким оказался этот первый шаг на пути к долгой и счастливой жизни вдвоем. Был славный летний вечер, до темноты еще далеко, и Кэтрин медленно, но уверенно вела машину по неширокой улице к шоссе. Движения тут почти никакого не было, и Кэтрин так и сияла. Но по щекам ее текли слезы.
«Ты думаешь, мы правильно делаем?» — спросила она.
«А что еще нам остается? — ответила я. — Это ведь чудесно — оставить все позади».
Она улыбнулась:
«Ну хорошо. Пусть так».
Навстречу нам, вверх по склону холма, на небольшой скорости шла машина, ее обгонял какой-то подлый мотоциклист. Он уже промчался мимо, но эта черная фигура, вдруг возникшая перед Кэтрин, отчаянно ее испугала, она вскрикнула, наша машина проскочила через живую изгородь и покатилась под откос. Мир обрушился, меня словно накрыло толстым одеялом, и по нему застучали молотки. Потом я почувствовала, как меня из-под него выволакивают.
Снова надвинулась тьма, и я открыла глаза уже в больнице. Я спросила о Кэтрин, и мне сказали, с ней все в порядке. Она и правда пострадала меньше меня. У меня были сломаны ноги, перебиты ребра да еще сотрясение мозга и всякие ранения помельче. Когда я вышла из больницы, Кэтрин была уже замужем за своим дружком: его заставили признать, что она забеременела не без его участия. Она поселилась с ним неподалеку от Ньюкасла, и теперь у них уже трое детей. Мне удалось увидеться с ней на прощание, но мы с трудом узнали друг друга. Все считали, что это я — злой гений — совратила ее с пути истинного, и я не стала спорить. Пусть так, по крайней мере ей будет что обо мне вспомнить.
С тех пор мы не виделись, не переписывались. Я отбыла свою каторгу в Бристоле, потом давала там частные уроки. А потом мне пришла в голову блестящая идея — написать диссертацию о современном английском романе, но, боюсь, я не двинусь дальше Джилберта Блэскина, потому что я в него влюбилась. Это не такая уж редкость; я вообще влюбчивая. Я влюбляюсь потому, что мне чего-то не хватает, а не потому, что есть что отдать, и мужчины это понимают и, как только получат свое в постели, отворачиваются от меня.
— Зря ты расстраиваешься, — сказал я. — Каждый получает чего хочет. Честное слово… хоть обо мне этого, может, и не скажешь.
— Мне жалости не надо, — сказала Пирл и так улыбнулась, что сразу стало ясно: никакой она не циник и вовсе не махнула рукой на свою жизнь, хоть а старается всех в этом убедить.
— А я не думаю тебя жалеть, — сказал я. — Мне только тех жалко, кто живет впроголодь, и еще — кто неизлечимо болен.
— Как это верно! Хорошо бы почаще такое слышать. Эти слова были мне как маслом по сердцу.
— Я правильно говорю, — продолжал я. — Первым делом надо заботиться о теле. Если оно пропадет, тогда уж ничего не останется. А если человек сыт и здоров, глядишь, все еще как-нибудь да образуется.
— На словах-то это легко, — сказала она. — Но все равно ты прав. Я знаю.
— Не сердись на мою трепотню, — сказал я, — В каком-то смысле я еще похуже Джилберта. А только я тебе правильно говорю.
— Ты это чаще повторяй, может быть, я наконец поверю. Иногда я готова кинуться в пропасть: с кем ни заговорю, все соглашаются, что все на свете ужасно, и тогда я не понимаю, зачем жить.
Я встал — решил вскипятить воду для кофе.
— Если я когда-нибудь напишу книжку, я ее назову «Как жить спокойно и помереть легко».
Она с таким жаром стиснула мою руку, будто в ней и впрямь вспыхнула любовь.
— Джилберт не знает, что я его люблю. И я не стану ему говорить. Стоит сказать человеку, что ты его любишь, и он начинает топтать тебя ногами.
— Так ведь если не сказать, он, может, никогда и не узнает.
— Может быть, он сам поймет, — с надеждой сказала Пирл. — Я ему это сколько раз по-всякому показывала. Сейчас мне так плохо — хуже некуда, и все равно кажется, может, все еще повернется к лучшему, и вот тут-то я пугаюсь не на шутку — ведь когда надеешься на лучшее, тогда жди беды.
Она так неожиданно все поворачивала и выворачивала, меня аж в пот бросило, мне уже мерещилось: она рассуждает как нельзя верней.
— Я вечно сомневаюсь в себе и своих чувствах, — продолжала она, — но только для того, чтоб лучше понять себя, а вовсе не затем, чтобы себя погубить…
— Зато это верный способ погубить других, — сказал я, пожалуй чересчур резко.
Вошел Джилберт, плюхнулся на стул, и я понял: пьесу он смотрел никудышную.
— Не пьеса, а кухонная лохань. Кусочек жизни, — заявил он. — Полно грязной посуды. И даже не запускают друг в друга немытыми тарелками. А диалог отличный. Самый что ни на есть новейший жаргон.
Пирл положила руку ему на плечо, дала отпить кофе из своей чашки.
— Покормить тебя?
— Ужинал с типом, который сочинил эту пьесу. Он считает, что мои романы — хлам, а я считаю, что его пьесы — вздор, так что мы потопили наше взаимное расположение в вине. Я хотел проявить сочувствие, сказать, что оба мы все же писатели, но он принялся рассказывать, как он обставляет свой новый дом, и рассуждал, какой лучше купить автомобиль.
— Но ведь у тебя-то уже есть и дом и автомобиль, — напомнила ему Пирл, по-моему совсем некстати.
— У него тоже. Но ему надо еще и еще. Это бы все не беда, только пускай бы он написал пьесу со счастливым концом, а уж мне предоставил писать мои трагические романы. Хотя, понятно, нельзя рассчитывать, что мне удастся монополизировать рынок на веки вечные. Ужас какой я эгоист. Ну, а вы чем тут без меня занимались? Предавались блуду в моей лучшей постели?
— Я часа два бродил как тень вокруг вокзала Виктории, а потом прогулялся по Вест-Энду.
— Сегодня я получил письмо, оказывается, один мой поклонник напечатал мой четвертый роман цветным шрифтом Брайля, так что уже сам вид этого издания будет радовать глаз читателя. Представляете? Но потом кто-то сказал этому издателю не от мира сего, что слепые все-таки не видят, и тогда он с отчаяния застрелился. Я ему сочувствую: ведь он пытался осветить мирскую тьму, и хотя, как выяснилось, он был не в меру храбр и безумен, попытка эта достойна похвалы. Да воссияет свет в ваших сердцах! Я — за то, чтобы убедить людей, вопреки их инстинкту, что жить стоит. Не отчаивайтесь, говорит Джилберт Блэскин. Предоставьте отчаяние ему. Он облегчит бремя ваше. Но кто же, о господи, облегчит бремя его, Джилберта Блэскина? Жизнь взваливает на его плечи двойной груз, леди и джентльмены, но ему не следует этого замечать, ибо он помогает вам не замечать вашей ноши.
В театре я видел свою жену с оравой приятельниц. Я ее не бросал, но устроил так, что она бросила меня. Я годами мечтал от нее уйти и все не мог решиться, тогда я превратил ее жизнь в сущий ад и сбежать пришлось ей, не то она свихнулась бы или удавилась. Я хотел от нее избавиться, чтоб развязать себе руки и жениться на своей любовнице. Но как только жена ушла, я совершенно охладел к любовнице. Не спрашивайте почему. Пули самоанализа не проникают так глубоко. Или, может быть, проникают — у героев, которых я вызываю к жизни, но не у меня. Итак, я порвал с любовницей и попросил жену вернуться. А она рассмеялась мне в лицо — она, оказывается, давным-давно хотела от меня уйти, но не могла, пока я ее не вынудил. И вот я живу в этой квартире, полной воспоминаний, и их не может изгладить из моей памяти даже моя восхитительная и пламенная Пирл. А уж если не может она, значит, не сможет никто. Самое глупое, что я вовсе не люблю свою жену, и, вернись она, я в первый же месяц, куда там — в первую же неделю, постарался бы снова от нее отделаться. Ей-богу, Майкл, жизнь — штука не простая. А если вам кажется иначе, лучше сразу прыгайте в унитаз и спустите за собой воду. Говорят, в Нью-Йорке в канализационных трубах полно крокодилов, хозяева спускают туда своих любимцев, когда надоест с ними нянчиться.