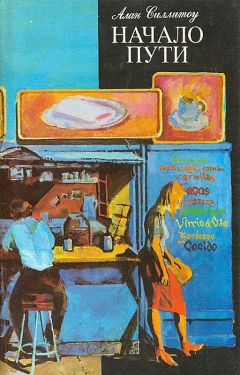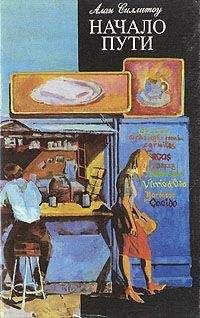Я оставил его в камере хранения на вокзале Виктории и зашагал по улицам, которые еще не утратили для меня свежести и привлекательности. Все магазинчики в Сохо были открыты, вдоль тротуаров — сплошь ручные тележки и всюду — толпы утренних покупателей. Я купил испанскую газету, которую не мог читать, с сигарой в зубах уселся в какой-то итальянской закусочной и в перерывах между затяжками отхлебывал черный кофе. Всякий раз, как я пускался в бега или просто покидал старое место, я непременно надевал выходной костюм. Уж не знаю почему, но от этого я чувствовал себя лучше. А раз в таких случаях он прибавлял мне бодрости духа, значит, ясно: бездомность мне совсем не по нутру и надо поскорей что-нибудь придумать. Похоже, Моггерхэнгер мне враг (может, утренняя угроза — только начало) и лучше бы мне на месячишко смотаться из Лондона, не показываться там, где ему принадлежит чуть не половина клубов.
Но уж очень неохота было расставаться с Лондоном, и оказалось, я хорошо сделал, что не уехал: днем я зашел пообедать в итальянский ресторанчик (стоило мне оказаться без места — и у меня разыгрывался волчий аппетит) и увидел — в глубине комнаты за отдельным столиком спиной ко мне сидит человек и что-то уж больно знакомый у него затылок. Я стал ждать, чтоб человек обернулся, но он все время смотрел в сторону, вроде не хотел никому показываться. Несколько раз я думал: вот сейчас обернется, скучно же без конца пялиться на стену, а перед ним больше ничего и не было. В какой-то миг мне даже видно стало сбоку его лицо, он как-то очень знакомо повернул голову, а голова — точь-в-точь репка, и уж наверняка я вижу ее не первый раз. Я ел итальянский овощной суп, густо заправленный лапшой, и все соображал, чья же это голова репой и как звать этого парня. Рылся я, рылся в памяти, перебрал даже все фильмы за последние десять лет — может, вспомнится лицо какого-нибудь актера и подскажет, кто он такой.
Похоже, он так никогда и не обернется — и я взял и уронил нож, но кругом была прорва народу, все ели, разговаривали, и он ничего не услыхал. Рядом с ним стояла вешалка, а на ней дорогое легкое пальто, шляпа и кашемировое кашне. Мне принесли телятину, а он, оказалось, меня опередил, официант уже поставил перед ним кофе. Он наклонился над столом — видно, читал газету, — и над его головой поднимался сигарный дым. Он спросил счет, и официант уж так к нему подскочил, сразу было видно — это постоянный клиент и на чаевые не скупится. Я хотел перехватить хоть несколько слов, да не удалось. Он встал, официант подал ему пальто, и только он обернулся — сердце у меня подпрыгнуло.
Я окликнул его по имени — не слишком громко, чтоб он один услыхал, и он поглядел в мою сторону с таким видом, будто я его облаял. Так вот это кто — Билл Строу, всезнайка и обжора, который прикатил со мной в Лондон. Он был в светло-сером костюме, в шелковой рубашке и темном в крапинку галстуке, в зубах все еще торчала сигара. Тогда, помню, лицо у него было небритое, по-тюремному бледное, а сейчас такое сухощавое, загорелое, сразу видно, силы бьют ключом и оттого он помолодел на десять лет. И все же это, без сомнения, был он, мой друг-приятель Билл Строу, с которым мы вместе добирались до Лондона.
Он подошел ко мне поближе, глянул своими серыми глазами и улыбнулся.
— Привет, красавчик, я уж думал, больше мне тебя не видать. Давненько не встречались.
— Сто лет, — сказал я и пожал протянутую руку. — Садись, выпей еще кофе.
— Выпью, — согласился он. — А ты глотни коньяку — я угощаю.
— Тебя теперь не узнать.
— Таким, как тогда, я уже не буду, — сказал он. Он и говорил-то теперь по-другому. Взгляд у него стал какой-то отрешенный — не поймешь, о чем он думает. — Нет, таким, как на Большом северном тракте, когда ты меня подобрал, ты меня больше не увидишь.
— Прости-прощай прежний Билл Строу, — сказал я, да, видно, чересчур насмешливо — его даже передернуло.
— Тебя требуется малость отшлифовать, — сказал он. — Больно ты неотесанный. И вот что, никакой я не Билл Строу, сделай милость, забудь это имя. Я для всех Уильям Хэй, для всех знакомых и для моих хозяев. И в паспорте так записано. А профессия моя — директор компании. Ну, вот, так и знай, только ты не думай, я не перестал быть человеком. Мне удалось разделаться с прежней жизнью. С тем, что было до приезда в Лондон, — покончено. Но тебя я не забыл, потому как ты мне помог. Послушай, — вдруг почти по-приятельски, как тогда на дороге, спросил он, — а эту самую Джун ты, случаем, не встречал, а?
За коньяком я рассказал ему все, что со мной было с тех пор, как мы расстались в Хендоне. Рассказал и что ухитрился нажить себе врага — Моггерхэнгера, и это явно произвело на Билла впечатление.
— Некоторым ребятам такое в страшных снах снится, — сказал он. — Моггерхэнгер зверь опасный, ты уж держись от него подальше. И вообще послушай-ка ты меня.
— А что ж, могу, — сказал я. — Сразу видно, у тебя дела что надо.
У него лицо сделалось каменное, и он сказал:
— Ты еще малость желторотый. Это я мигом увидал, еще когда ты меня подобрал и позволил, чтоб я всю дорогу объедал тебя. Даже не знаю, как ты до сих пор уцелел. Вот рассказывал ты, и вижу — тебя не опыт выручил, просто везло. Только сдается мне, пора тебя взять в руки. Пока что поживи у меня. Я ночью выгнал свою теперешнюю любовницу, живи, пока не заведу новую. У меня квартира в Бэттерси. Маленькая и тихая, мне как раз подходит. Помнишь, я тебе говорил, мне причитается несколько тысяч за работу, из-за которой я угодил в тюрягу? Ты небось думал, я заливаю, да?
Он засмеялся и закурил новую гавану.
— А я не заливал. Я часто говорю правду, а людям кажется, при такой морде — и не хочешь, да соврешь. Старый фокус. Так вот, денежки меня дожидались целехоньки, и еще за все годы, пока я отбывал срок, набежали проценты. Кругленькая сумма — пять тысяч триста! Даже не ожидал, что те ребята сдержат слово. На суде-то я их выгородил, понимаешь, и они это знали. Проценты и сейчас идут. Меня свели с одним маклером, он вложил мой капитал в английскую промышленность — дело верное, восемь процентов годовых. Да я к этой деньге, считай, и не притронулся — взял всего три сотни на обзаведение и одежу, потому как приспособили меня к выгодной работенке, и она мне в самый раз: все время держит меня в стороне от Англии, катаю в разные тепленькие местечки на материке, а бывает — и подальше. Ну, покуда особо трепаться не стану, только загорел я не на альпийских курортах. Но ты знай: кто мне помог, когда я был на мели, я того не забываю. Это уж точно, такой я человек и всегда такой был. Ты-то, может, и не догадывался, но, когда ты меня подобрал, я уж совсем до точки дошел. Выдохся, хоть помирай, за душой ни гроша, в брюхе пусто, всякую надежду потерял. Ну, думаю, мне конец: дождь хлещет, машины все мимо летят, только грязью обдают, продрог до костей, чувствую — все, конец мне, сейчас сдохну.
Он заказал еще коньяку, словно боялся, как бы эти воспоминания не отняли у него недавно обретенное мужество.
— Да я ж ничего такого не сделал, — сказал я. — Просто катил мимо в своей старой калоше, гордый такой, вижу, парень зря мокнет, жалко мне стало — ну, и остановился.
— Ты не прогадал, что помог Уильяму Хэю. Это во мне засело прочно. Век не забуду.
— Тогда за твое здоровье, — сказал я и отхлебнул отличнейшего коньяку.
— У меня сейчас хорошая работа, Майкл. Путешествую. За последние месяцы насобачился путешествовать. Был на Среднем Востоке. И за Северным полюсом. И повсюду в Европе. Да только платят мне недаром. Больше покуда ничего не скажу. Каждый грош я заработал в поте лица. Потому и наедаться мне надо как следует — два, а то и три раза в день. Для моей работы сила требуется и бодрость, не то сорвешься, а это хуже некуда, тогда прости-прощай работа, а может, и того хуже. Нелегкая жизнь, не гляди, что здоровье у меня на зависть и дела хоть куда. Такой трудной работенки у меня отродясь не было, зато она и денежная. — Он хохотнул. — Денежная. Это уж точно, черт ее дери.
Я никак не мог догадаться, какая же это у него работа, и меня разбирало любопытство. Закусочная пустела, и Уильям предложил пройтись. Он, когда не работает, должен за день отшагать пять миль, не то потеряет форму.
— Мне положено вволю лопать и вволю топать, — со смехом сказал он, когда мы вышли; он пожелал заплатить и за меня тоже, и хозяин с поклоном проводил нас до дверей.
— Ты ходок ничего, — сказал Уильям, когда мы вышли на внутренний круг Риджент-парка; похоже, он мне устроил какое-то испытание. — Ну, а что едок ты хороший, я и так верю.
Мы уже явно отшагали лишнее, и я не понимал, чего ради зазря оттаптывать ноги. Больно мне надо, чтоб меня хвалили за выносливость, по мне, пора уже было возвращаться в город.
— А теперь, — сказал Уильям, — мы повернем к Бейкер-стрит, дойдем до вокзала Виктории, прихватишь свой чемодан, а там перейдем Темзу и — в Бэттерси.