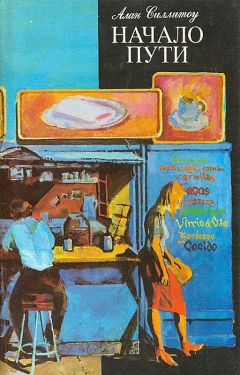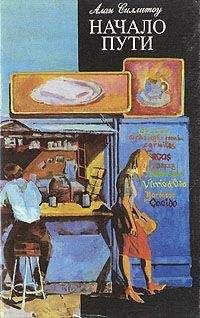Так он разглагольствовал и время от времени прополаскивал внутренности коньяком, а под конец свалился со стула, и нам пришлось перетащить его в спальню и уложить в постель.
А потом я сидел у себя в комнате и раздумывал, как бы отсюда смыться. Джилберт еще не читал свой роман после машинки. А прочтет — его хватит удар. И не потому, что я плохо над ним потрудился. Печать четкая, чистая, бумага между строк белая, не перемазанная, и кой-кто, может, и впрямь подумает, что это роман. Поначалу я принялся честно перепечатывать рукопись Джилберта, но посередке заскучал, а потом герой в Париже уселся на улице за столиком кафе и начал раздумывать, куда ему теперь податься — к подружке в Лондон или к дружку в Ниццу… Ну, тут я достал с книжной полки у себя за спиной роман Генри Филдинга «Родерик Рэндом» и перепечатал оттуда двадцать страниц, они, по крайней мере, подбавили толку блэскиновской малохольной муре. Я впечатал целые страницы и из других романов, хоть понимал, конечно, — это не совсем то, чего надо было автору. На эту работу я потратил больше трех недель, Блэскин, пожалуй, обозлится и выкинет меня вон, — так уж лучше я снова стану хозяином своей судьбы и унесу ноги, пока он еще не понял, что я натворил. Но, может, я зря спешу, может, набраться храбрости и обождать, может, он вовсе и не станет сейчас перечитывать свой роман, а прямо отошлет его издателям. Там, наверно, ничего не заметят и — рады-радешеньки — издадут: наконец-то проза мистера Блэскина стала богаче и полнокровнее, ведь они втайне надеялись на это с тех пор, как по ошибке приняли его первый роман за настоящую литературу. Может, рецензенты даже расхвалят это сочинение за новые достоинства. И тогда ему будет за что меня поблагодарить… если я до тех пор не смоюсь.
Я все-таки надумал уходить, но не среди ночи: подыскивать место для следующего ночлега всегда лучше с утра, когда ты как следует выспался. И вообще мне нужны свои четыре стены, чтоб приходить и уходить, когда захочу. Я вон как долго отсиживался у Блэскина — Моггерхэнгер, верно, уже махнул на меня рукой, даже если он тогда и вспомнил обо мне и воображал, будто сумеет меня отыскать. Притом Блэскин до сих пор не заплатил мне ни гроша, а ведь торжественно обещал пятьдесят монет в неделю. Раза два я ему ясно и понятно напоминал про деньги, но хоть он из тех, кто всегда все замечает и всякий намек ловит на лету, почему-то он совсем не понял моих слов или пропустил их мимо ушей.
По моим расчетам, в доме все уже спали, я выскользнул из своей комнаты и прокрался в прихожую, где висело его пальто. Я взял две бумажки по пять фунтов — за работу над его романом мне причиталось никак не меньше. В бумажнике было шестьдесят фунтов, и можно было бы взять их все, но в глубине души я знал: если Блэскин решит, что его несправедливо обчистили, он сообщит в полицию и глазом не моргнет, ведь он из тех, кто добрый, пока ты ему любопытен. А дальше — как в джунглях: идут в ход клыки и когти.
Выбраться из квартиры надо, пока и он и Пирл еще спят, и, чтоб сэкономить время, я с вечера уложил чемодан. Потом выключил свет, раздернул занавеси, стоял у окна и смотрел на дома напротив. Вон женщина в белой рубашке наклонилась, мужчина притянул ее к себе, и обоих уже не видно. В другом окне громадный пес, ростом с человека, прижал к стеклу большущую башку, вдвое больше человеческой, и вроде лает, только мне не слыхать, и царапает раму лапами, — видно, сидит взаперти и ему никак не вырваться. Я поглядел в сторону, на другие окна. Интересно, многим ли надо вставать спозаранку и отправляться на работу? А всех остальных я сейчас ненавидел, будто во всем мире у одного меня только есть право бездельничать. Я всегда жалел только тех, кто голодает, и сам шел работать, если иначе подох бы с голоду. А вот сейчас глядел на эти окна — их, верно, были тысячи, из-за них даже неба было не видать — и чувствовал: прежняя уверенность, что я один вправе бездельничать, рассыпается в прах. На что оно мне одному, это право? Оно отгораживает меня от людей, которых мне всего сильнее хочется узнать. Но вот беда: чтоб соединиться с ними, я должен гнуть спину, наживать горб. А ведь чем дольше я буду жить как живу, тем трудней мне это будет, но в то же время я дорого бы дал, чтоб понять, хватит ли у меня мозгов держаться подальше от безликой, серой массы и не пасть так низко, как Джек Календарь. Присоединиться к ним проще простого: включи свет у себя в комнате и встань, заточи себя в прямоугольник окна, и тогда те, напротив, увидят — ты такой же узник, как и они. И я лег спать в темноте.
Через несколько часов за окном проклюнулось что-то похожее на утро, и я проснулся; пить хотелось жутко, но я знал: придется подождать, пока выберусь отсюда и найду какое-нибудь кафе. Я в два счета оделся, огляделся напоследок и с чемоданом в руке двинулся к двери. Меня трясло — видно, за последние месяцы слишком часто приходилось сматывать удочки, и еще вопрос, хотелось ли мне сейчас уйти. Меня ведь даже не гонят… Да это неважно, все равно я ухожу, сейчас же, чуть свет, и точка.
За дверью стоял какой-то человек, он уже собирался позвонить, но увидел меня и вроде обалдел не меньше моего. Он был в светлом коротком плаще, высокий такой, складный, только волосы уже редеют.
— Вам чего? — спросил я как можно тише.
— Мог желает свой фитиль обратно, — прошепелявил он.
Я ничего не понял.
— Вы ошиблись адресом.
— Меня послал Моггерхзнгер. Он желает получить свою зажигалку.
— У меня ее уже нет.
— Он желает свой фитиль обратно.
— Нет у меня этой штуки. — И я захлопнул за собой дверь. — Посторонитесь-ка. Дайте пройти.
Тут он здорово меня толкнул — я даже чемодан выронил.
— Мистер Моггерхзнгер требует свой фитиль. — Он вытащил из кармана опасную бритву, раскрыл и ухмыльнулся. — Он велел поставить на тебе отметину, коли не отдашь.
Сверкнула сталь, я понял намек, нагнулся, вмиг открыл чемодан и стал рыться под кипой рубашек и грязного белья.
— Я как раз собирался зайти к нему сегодня и отдать, — сказал я и сунул этому типу зажигалку.
Он нажал, вспыхнуло пламя, и он уставился на него, будто готов был до завтра глазеть на эдакую красоту. Налюбовался, еще раз ухмыльнулся, погасил зажигалку и сунул в карман, а в другой руке все время держал бритву.
— Порядок? — спросил я как мог спокойнее и через силу улыбнулся.
Он поднял руку и аккуратно так чиркнул бритвой у меня перед носом, даже кожу не задел. Я вскрикнул, а он заржал, поддал ногой чемодан — барахло мое рассыпалось по ступеням — и так прямо по вещам и протопал.
Я подобрал свои пожитки и затолкал обратно. Уходя, этот гад наступил на тюбик зубной пасты, она выстрелила белой струей и перемазала ковер на лестнице. Я весь был в холодном поту, руки тряслись, никак не удавалось засунуть в чемодан галстук. Я стал на колени, подбирал оставшиеся вещички и думал: хорошо бы вернуться в квартиру, уснуть, а потом проснуться и за завтраком решить, что нечего мне отсюда уходить, что мне просто привиделся дурной сон. Но квартира заперта, ключей у меня нет, да и все равно не стал бы я возвращаться.
Чем дольше я сидел на лестнице, тем легче становилось на душе, и наконец я заставил себя закрыть чемодан и встать. Нащупал в кармане сигареты и спички, почувствовал — ноги меня еще не слушаются — и не спеша закурил, будто отдыхал перед дальней дорогой. Часы показывали восемь, меня мутило, да и вообще пора было завтракать; я подхватил чемодан — теперь наконец можно идти.
В воздухе отлично пахло дымом, бензином, Джилберт Блэскин сказал бы, наверно, — пахнет самой жизнью. Люди добрые уже шли на работу, а я шагал с чемоданом в руках по Кингз-роуд и желал им удачи и долгих лет жизни. Я отыскал закусочную, уплел бекон, блинчики, выпил кофе и опять почувствовал себя здоровым и полным сил, страх перед моггерхэнгеровской карательной экспедицией из одного человека совсем прошел, я взбодрился и даже малость обнаглел. Раскрыл план города и задумался: где теперь буду жить, в каких четырех стенах окажусь к вечеру и найдутся ли такие стены? На счету в банке у меня двести пятьдесят фунтов, так что я кум королю, хоть и не на вечные времена. Может, пойти в гостиницу? Нет, это уж на самый крайний случай, если на ночь глядя вовсе негде будет приклонить голову, разве что прямо на мостовой. Я шел в сторону вокзала Виктории, вещей у меня было кот наплакал и чемодан, считай, ничего не весил, а все равно таскать его по улицам неохота. Человек с чемоданом — это либо приезжий, либо вор, либо простофиля, которому на улицу и выйти-то опасно. С чемоданом в руках не пощеголяешь. Даже если он ничего не весит, все равно будешь бросаться в глаза и уже нипочем не растворишься в толпе.
Я оставил его в камере хранения на вокзале Виктории и зашагал по улицам, которые еще не утратили для меня свежести и привлекательности. Все магазинчики в Сохо были открыты, вдоль тротуаров — сплошь ручные тележки и всюду — толпы утренних покупателей. Я купил испанскую газету, которую не мог читать, с сигарой в зубах уселся в какой-то итальянской закусочной и в перерывах между затяжками отхлебывал черный кофе. Всякий раз, как я пускался в бега или просто покидал старое место, я непременно надевал выходной костюм. Уж не знаю почему, но от этого я чувствовал себя лучше. А раз в таких случаях он прибавлял мне бодрости духа, значит, ясно: бездомность мне совсем не по нутру и надо поскорей что-нибудь придумать. Похоже, Моггерхэнгер мне враг (может, утренняя угроза — только начало) и лучше бы мне на месячишко смотаться из Лондона, не показываться там, где ему принадлежит чуть не половина клубов.