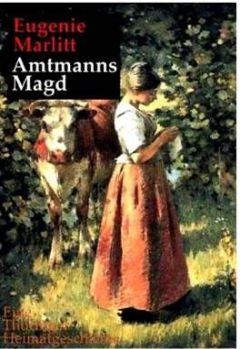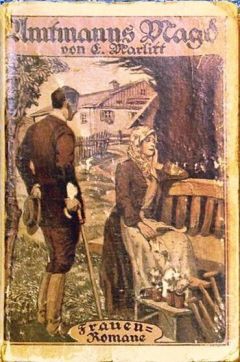Но сейчас отец смутился, потому что прочел на лице Спини заслуженный упрек. «Скажи ему, скажи ему что-нибудь по-английски», — толкал он меня, но я не знал, что сказать. Да и что я мог объяснить этому симпатичному человеку? Я повернулся и пошел вслед за матерью, которая уже стояла в кухне и молола мясо для котлет. Чего только она не делала, чтобы завоевать его сердце. Крутила ручку мясорубки, утирая нос тыльной стороной руки, закрывала глаза, чтобы не видеть мясо, — и все напрасно. Просила меня научить ее читать и писать, но никак не могла научиться. Карандаши ломались в ее пальцах, расцветая черными цветами на языке и губах, бумага покрывалась дырами, графитными крошками и маленькими, из чернил и слез, пятнами Роршаха. Ее надежды таяли. В отчаянии они ждала встреч с Шену Апари. В отчаянии расчесывалась и прихорашивалась. В отчаянии покупала себе новое платье и мыла голову в дождевой воде Джамилы — все напрасно.
И все это время отец искал ту девочку в ее теле, шел к ней по горным тропам: пятно ее волос сверкает впереди, разбойники кругом, спешит, как быстрый олень и горах. Ее лицо высоко над его глазами, длинные ноги — по сторонам его головы. Мокрые кольца твоих волос. Гул прибоя в твоем теле. Шум дождя.
Неделю спустя Артур Спини прислал зеркало, упакованное между двумя досками, стоявшими в кузове грузовика, и обложенное картоном и ватой. Яков соорудил для него раму из железных уголков и поставил на ось, смонтированную на трубе, чтобы его можно было поворачивать и направлять.
Он был вне себя от счастья. В два часа пополудни, когда солнце поднималось на нужную высоту, он надевал на голову соломенную шляпу, брал в корзинку бутылку воды и полбуханки хлеба, собирал несколько тетрадей и книг, чтобы приготовить там домашнее задание, и взбирался на крышу пекарни. Со временем он приделал себе на трубе маленькое сиденье, потому что однажды едва не был сброшен оттуда неожиданным порывом ветра.
Проходили дни, и толки о любви моего брата распространились по всей округе. Посмотреть на «парня, сидящего на трубе» приходили и люди из других деревень. Как-то раз заявился даже фотограф, пытавшийся сделать снимок для своей газеты, но Яков, увидев его, повернул зеркало в его сторону. Послышался дикий крик боли, и фотограф сбежал, закрывая глаза руками.
С постоянством сидящей на гнезде аистихи Яков провел на трубе большую часть послеобеденных часов своей юности, непрерывно излучая, но не иссякая. Окно Леиной комнаты не открывалось, но Яков знал, что она там и знает, что он на трубе, и еще ему было известно, что я тоже там.
— Это некрасиво, как ты делаешь, — сказала мне мать.
— Она сама меня приглашает, — ответил я.
— Эта Лея — она Якова.
— Эта Лея — она ничья, — передразнивал ее отец.
— Нечего беспокоиться, — улыбалась Шену Апари, точно пророк, которому открылось ободряющее знамение. — Она поступает так только для того, чтобы разжечь любовь Якова.
— А я и не беспокоюсь, — сказал Яков. — Если она его пригласила, пусть идет. Все равно она будет моя.
Ночью, в нашей комнате, я спросил его, говорил ли он искренне.
— А чего мне беспокоиться? — ответил он. — Я ведь вам всем уже сказал — в конце концов она будет моя.
Мои встречи с Леей начались в библиотеке. Однажды она пришла туда, когда я заталкивал порошок против моли в щели книжных полок. Ихиель сказал мне: «Посоветуй ей какую-нибудь книгу», и я посоветовал ей «Таис». Когда она дочитала до той главы, где Пафнутий взбирается на высокий столп и усаживается там навсегда, она вернула книгу, раздраженно сказав мне, что если я надеюсь помочь своему брату, то мне лучше не вмешиваться. Ей было тогда лет пятнадцать, но жизнь наедине с матерью, брошенной женщиной, обогатила ее восприятие и сделала взрослой не по годам. Мы стояли друг против друга в проходе между высокими книжными стеллажами, она коснулась рукой волны своих волос, и я влюбился в нее.
Признаки были простыми и очевидными, даже угнетающими своей обыденностью. Сухость во рту. Учащенное сердцебиение. Тяжесть и вялость. Я полагаю, что и ты сталкивалась с ними — в собственном теле, в телах своих любовников, в прочитанных книгах. Но я ощущал и еще один, особый признак, которого ожидал с тех пор, как услышал, что Шену Апари говорила матери: «А есть еще такого рода мужчины — когда они влюбляются, их колени начинают говорить друг с другом в рифму».
В последующие дни я разостлал перед Леей лучшие свои товары. Я цитировал ей стихи, воровал для нее из кладовки замечательные масапаны тии Дудуч, показывал ей старинные книги по искусству, которые Ихиель не выдавал никому, и посоветовал ей прочесть «Историю Сан-Микеле». На третий день она сказала: «Давай сыграем, будто ты медведь, а я лапландская девочка», — и вдруг закружилась на месте и на одну головокружительную долю секунды взметнула передо мной свое платье. Я был в тот момент без очков. Ее голые бедра сверкнули, как сияние далекого облака, туман ее плоти обрисовался на моей сетчатке. На мгновение мне показалось, что я ощущаю муку Якова, но тут же понял, что меня обожгла моя собственная боль.
Когда-нибудь, если мы встретимся, я соблазню и тебя масапанами Дудуч. В «Мириам Дели», магазине деликатесов рядом с моим домом, я как-то обнаружил ту липкую подделку, что называется «толедским масапаном», и долго наслаждался, понося его, пока хозяйка не расхохоталась и как бы случайно не положила ладонь на мою руку. То была женщина лет сорока, веселая и красивая, очень похожая на меня ростом и цветом волос, и я рассказал ей о масапане своей тетки — об этой бледной отраде, великом утешителе, воплощенном баловстве, единственной из всех сладостей, попробовав которую женщины начинают смеяться.
«Масапан — это самая чистая, простая и возвышенная из всех сластей», — процитировал я ей «Маленькую кухонную энциклопедию» Отто Густина, и затем — из Григория Седьмого, который до того, как стал папой и был похоронен в дворцовой библиотеке своей матери, писал: «Средь сладких грехов известна любекская сласть, в которую входят всего две составляющие — миндаль и сахар, которые противоположны не по природе своей, а лишь в целях их совместного существования». Хоть он и не назвал эту «любекскую сласть» по имени, большинство исследователей согласны в том, что он имел в виду масапан.
На лбу владелицы магазина я увидел ряд красных точек, напоминавших то ли болезненный след сороконожки, то ли уколы колючек. Она почувствовала мой пристальный взгляд и смутилась. Когда ей было тринадцать лет, объяснила она мне, она пошла с родителями и церковь на богослужение и там по ошибке сжевала облатку причастия, которую священник положил ей на язык. Ее рот наполнился обжигающей солоностью, ворот кофты стал красным, а двадцать лет спустя на ее лбу появились эти кровавые точки.
— Ты могла бы сделать карьеру святой, — сказал я ей.
Она засмеялась.
— О нет! — сказала она, и горькая влекущая складка вдруг прорезалась меж ее бровями. — Видит Бог, что я — нет.
Я купил у нее миндаль и сахар, всю ночь напролет вызывал заклинаниями уроки тии Дудуч и назавтра в полдень вернулся в магазин. Я помахал перед ней своим маленьким пакетиком и сказал:
— Идеальная пара — мужчина с масапаном и женщина со стигматами.
Из всех женщин, которых я встречал в Америке, я люблю ее больше всех. Когда я вхожу к ней в дом, она взимает с меня сладкую десятину, которую я обязан ей принести, и, не переставая жевать и смеяться, снимает с меня всю одежду, берет за руку и ведет под душ. Там я с полным доверием вручаю ей свои очки, и, растирая все части и члены моего тела мылом и поливая обжигающей водой, она «не различает между убогим и богатым» — ничего не минует и ничему не дает поблажки. «Закрой глаза». Она моет мне голову, докрасна вытирает меня своими сильными руками и ведет в спальню.
Мы всегда ложимся в одной и той же позиции. «Эксперименты — это для тех, кто еще не знает, что такое хорошо», — смеется она. Потом она дает мне немножко подремать в ее кровати, а когда я просыпаюсь, уже торопит к столу. Она изумительно готовит чипсы и однажды открыла мне свой секрет: она жарит их в кокосовом масле. Когда она вынула из кладовки жестянку масла со старинной этикеткой на ней, я не мог удержаться от смеха. С тех пор, к ее великому неудовольствию, я всегда называю ее «Мадам Кокосин».
Однажды я соорудил ей мезелик[77] из собранных в ее магазине деликатесов — на столе были разложены черные маслины, которые я вынул из банки и выдержал, для большей морщинистости, в крупной соли, жирный сыр, который я залил тосканским оливковым маслом, маленькие твердые бублички, анчоусы «Зога», сухие и острые кабанос[78] «Сан-Себастьян». Мы провели два блаженных часа в компании нескольких рюмок ракии. Надеюсь, ты не смеешься сейчас и не подозреваешь меня в ностальгии. Этот стол с деликатесами тоже был всего лишь упражнением во вспоминании — таким же, как то блюдо с драгоценностями, с помощью которого Лурган Сахиб проверял память Кима. Ведь в моей памяти накопилось уже столько бесполезных и бессмысленных фактов, что я вынужден заниматься распродажей собственных древностей, непрестанно роясь на этих чердаках и разгребая залежи вздора и пыли до тех пор, пока перед моим мысленным оком не встанет моя Мнемозина и не взмахнет передо мной своим подолом.