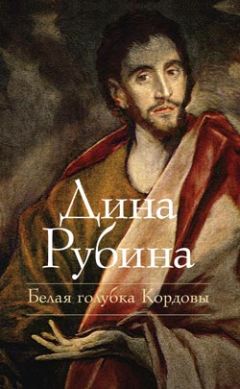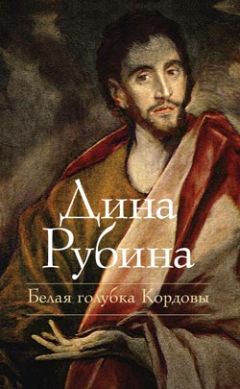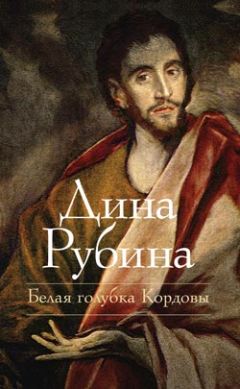– Го-о-ол!!!
Но дядя Сёма первым заметил совсем другой настрой мыслей мальчика и сразу сказал племяннице:
– Нет, Зюня тебе скакать не станет. Ты слышишь?
Зюня задумчивый, и везде рисует, где только может, – вон, всю стену в сарае мне испоганил. Его надо пустить по искусству.
И допек-таки, допек ее: в пятом классе эта шалава отвела-таки сына в художественную школу, что на улице Первомайской.
А там уже год как учился Андрюша…
Так это странно было, и если вдуматься: сколько на этом свете неизъяснимого, в смысле движений нашего сердца. Вот не любил же Сёма Захара Кордовина, мало сказать – не любил: ненавидел. Не только за то, что так легко и бездумно, так походя, тот увлек и увез Нюсю, не только потому, что необычайная удачливость его – во всем, во всем, даже в смерти! – не давала Сёме покоя. Нет, не поэтому.
Все ж удача и Сёме не изменяла в главном: всю войну пропахал, жив остался, – нет, бога незачем гневить. А потому, что необъяснимым образом Захар продолжал цепко жить в своих потомках. И не во внешности дело, хотя, глядя в эти серые наследные глаза, так и вспомнишь библейское «мене, мене, текел, упарсин»… Дело в пружинистой силе – в точности, ладности и уместности, – где бы те ни появлялись.
Вот это и было самым странным: Захара ненавидел, а Зюню, так страшно повторяющего деда в жестах, ухватках, улыбке – да во всем, черт его побери, во всем! – Зюню любил беззащитно и горячо, так, что эта шалава могла из Сёмы веровки вить по любому поводу.
Хотел он только одного: чтобы ребенок был здоров, при деле был, и вырос порядочным человеком.
А как эти двое – мать и сын – были меж собой схожи! Ведь рехнуться впору, глядя: одно лицо, одни повадки, тот же смех… и оторвать их друг от друга невозможно. Со дня рождения малыша спят в одной постели, вечно в обнимку, как сиамские близнецы. Утром зайдешь будить: спят беспробудно, обнявшись. А парень растет… куда это годится?
– Ты вот что, Рита, – сказал он однажды утром, когда на кухне она чистила зубы над раковиной. – Выделю я Зюне уголок в столовой. Буфет поставим поперек… от так… – он показал выпрямленной ладонью. – За ним раскладушка станет. А потом я ему топчан собью.
Она повернулась, со щеткой в белом рту, оскаленная, как волчица, у которой ее щенка хотят отнять.
– Это зачем? – спросила.
Тогда он проговорил, нахмурясь, но просто и естественно, ибо готовился к этому разговору месяца два:
– Потому что парню – десять, и что это за дело – в одной кровати с матерью спать!
Она вынула щетку изо рта, сплюнула в раковину, набрала в рот большой глоток из ладони, прополоскала и выплюнула. Развернулась к нему и отчеканила:
– Ты что дядя, спятил?! Что у тебя там, под кумполом, копошится, а?! Это мой ребенок!
Он махнул рукой и вышел из кухни.
Немного позже подступался с этим назревшим вопросом к самому Зюне. Тот тоже спросил с недоумением – зачем?
– Так неудобно же. Тесно.
– Нет, у нас тахта широкая, – ответил мальчик, возвращаясь к своей лепке – в то время он страшно увлекался изготовлением из пластилина целой армии самых разных персонажей и зверей: вылепит весь сюжет целой сказки, всех расставит на картонке, каждого в другой позе. И все крошечные, но у каждого свое выражение лица или морды, которое он выдавливал при помощи двух спичек, по-разному заостренных: копьем и лопаточкой.
– Зюня, послушай… Такие большие мальчики уже спят самостоятельно.
– Почему? – подняв голову от своей кропотливой деятельности, спросил ребенок с Риткиным выражением лица.
И дядя Сёма точно так же, как с Риткой, махнул рукой и вышел на крыльцо, совершенно не понимая – как быть, и что с ним-то самим, с ним что происходит? И до каких пор это будет продолжаться…
* * *
По субботам мальчик ходил с дядей Сёмой в баню, ту, что на Замостье. Через мост с лязгом тащился трамвай, но они с дядей Сёмой топали пешком, с чемоданчиком, в который тетя Лида складывала чистое белье. В бане можно было снять отдельный номер, но они с дядей Сёмой всегда мылись в общем зале – не из экономии, просто так веселее, всегда можно перекинуться словом со знакомыми. По субботам мылись и дядя Шайка, и старый Глейзер, и огромный Трейгер, у которого так же равномерно, как нижняя губа, ходил на шарнирах меж ногами дряблый толстый шмат.
Сначала они получали в общем зале шайки и ключ от шкафчика, который Зюня сразу надевал на шею. Раздевались и голые ковыляли (дядька без ортопедического ботинка – в нем не помоешься – страшно кренясь на сторону, вынужденный опираться на худое мальчишеское плечо) – в зал, где дядя Сёма валился на мраморный полок, а Зюня бежал с шайкой к холодному и горячему кранам. Поочередно их открывая, наполнял шайку и рьяно дотошно скреб жесткой мочалкой дядю – его больную ногу, свисающую жгутом, сутулую спину… После чего наступало самое страшное и ненавистное: мытье Зюниной вихрастой головы, непременно горячей-горячей водой.
– А как иначе! – приговаривал дядя Сёма, не обращая внимания на вопли мальчика, окатывая того кипятком, – чисты волосы будут только от горачей, исключительно от горстей!
Надо было еще сопровождать дядю в ад: в тусклую кабинку парной, из которой струями и клубами – только дверь откроешь – вываливался раскаленный пар. Дядя укладывался на одну из полок и там блаженно замирал, как старая черепаха. А мальчик выскакивал, чтобы минут через двадцать, вдохнув поглубже, нырнуть в раскаленное озеро пара, нащупать тряпичного мягкого дядю Сёму и тащить его прочь, наружу…
После того как одевались и выходили из банного зала, дядя Сёма с друзьями перемещались в просторную общую залу, где, помимо парикмахерской, была буфетная стойка с несколькими стоячими одноногими столиками и висели две ослепительные картины: Шишкин, «Утро в сосновом бору», и Репин – «Бурлаки на Волге», досконально изученные мальчиком: дядя Сёма меньше чем часа на полтора возле столика не застревал – что может быть лучше «жигулевского» после баньки?
И впоследствии, когда Захар уже учился в художественной школе, он по памяти воспроизвел в наиточнейших деталях и ту и другую прославленные картины акварельными красками, так что преподаватель Юрий Петрович Солонин, тот, что гнусавым голосом приговаривал на уроках: «Ты плох-та не делай, плох-та само получится…» – посмотрел на него долгим взглядом и понес обе картинки куда-то кому-то показывать, должно быть, в учительскую.
Был Юрий Петрович любителем поучительных притч и баек из жизни художников. В его рассказах Репин, Суриков, Шишкин и Айвазовский выходили большими затейниками, мудрыми озорниками, умельцами и хитрованами.
– …И служил молоденький Василий Иваныч Суриков в Енисейском губернском управлении ма-аленькой сошкой, ничтожным канцелярским подай-принеси. Бумаги на подпись губернатору носил. Тот на парня даже головы не поднимал, не замечал, и все тут! Э-э-э, подумал Василий Иваныч, – я те такое смастачу, ты на меня таки глянешь, не удержишься. И нарисовал на каком-то прошении… муху! Обычную муху, как она есть: крылышки сквозные, лапки тонюсенькие… Подносит губернатору прошение с мухой, а тот: мах! – и Юрий Петрович с брезгливой миной делал кистью руки смахивающий жест: – мах! Не улетает, чертовка! Что такое?! К листу она, что ли, прилипла?! Пошла, пошла, зараза!.. Не улетает! Как сидела, так и сидит. Только тогда поднял голову и в упор на парня взглянул. Разгляде-е-ел все-таки!
То ли под впечатлением этих рассказов о мастеровитых шутниках, а может, самому в голову пришло – однажды Захар предложил Косте Рогожину, который ужас как боялся экзамена по математике, для жалости разрисовать его синяками и кровоподтеками.
И лично Юрий Петрович, сочувствуя парню, в тот день отпустил Костю лечиться. А когда тот, лукаво-торжествующий, явился домой, то с маманей, открывшей ему дверь, приключилась истерика. «Не стану, не стану мыться! – счастливо повторял Костя. – Это ж какая выгода! Захарыч, вот тут кровищи мне подбавь, а?!»
Так началась его художническая слава. В школе, бывало, на живописное членовредительство очередь выстраивалась: малевались до начала уроков на широком подоконнике, в туалете. Тут же у Захара лежали на газете краски и карандаши, в стакане стояли наизготовку две-три кисточки. Каждый выбирал себе увечье по своему вкусу, то, что считал наиболее убедительным.
– Следующий, – деловито говорил Захар, полоща кисточку после изображения страшного кровоподтека.
– Глаз! – подобострастно просил «следующий». —
Захарыч, нарисуй, шоб аж заплыл весь: нет мочи на доску зырить, и все!
А однажды старшеклассник, забежавший в туалет по малой нужде и застрявший при виде этих живых фресок, вдруг с интересом спросил Захара:
– А носки умеешь изобразить? Я сегодня телку в кино веду, а дома двух одинаковых не нашлось, – и вытянул босую несвежую лапу из растоптанного ботинка: – серые, а? в черный рубчик…