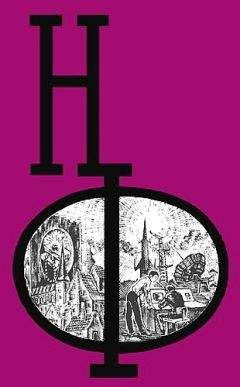Если стремление противиться притупилось в ней в момент растерянности и тоски, не значит ли это… Но глухая боль в сердце ответила ему, что это могло значить… Кое-кто из негров, бывших там, в кафе, просто-напросто сорвал на Пегги злобу, остальные позволили выгнать девушку, она бежала, вне себя от горя, полагая, что все от нее отвернулись, все презирают ее. Но если бы один из них пришел к ней раньше, чем он, Макэлпин, и сейчас сидел бы здесь и утешал ее, тем самым давая ей знать, что и все остальные не лишили ее своей сердечной дружбы, как благодарна бы она была тому, кто принес ей эту радостную весть, как тронута, как горячо стремилась бы показать ему, что и ее любовь к этим людям остается неизменной! Ведь сердцем она с ними. С ними связана счастливейшая часть ее детства. Тот обнаженный мальчик Джок… Джок Джонсон первым пробудил ее. Как счастлива она была бы, если бы один из них держал ее сейчас в своих объятиях и утешал! Но вместо этого явился он, и, чувствуя, что те другие отвернулись от нее, девушка, не пожелавшая отдать ему свою любовь в те времена, когда ее все уважали, сейчас готова это сделать.
Терзаемый сомнениями, он не знал, как быть, пальцы медлили расстегнуть пуговицу на ее блузке, и пока он собирался с мыслями, в его ушах зазвенел глумливый смех всех его здешних знакомых; они с шумом вломились в комнату, грубо понося его, хихикая и насмехаясь над его наивной верой в то, что Пегги осознала свою любовь к нему не сразу; в их издевательских выкриках потонул его внутренний голос. Макэлпин слышал только крик Роджерса: «До каких же пор несчастный дуралей позволит водить себя за нос?»
— Когда мы с вами познакомились, — заговорил он, — вы иначе относились ко мне, верно?
— Вы нравились мне с самого начала, Джим.
— Но не настолько, чтобы вам захотелось лежать со мной вот так. О, нет.
— Так, как сейчас… в начале знакомства? Нет.
— Совсем иное чувство было у вас…
— К кому?
— Ну хоть к Уэгстаффу, пока он не…
— Да, то было другое чувство, Джим.
— Вот именно. Другое, — повторил он, намеренно истолковав ее ответ таким образом, чтобы дать себе новую пищу для подозрений.
И мысли его закружились в бешеном водовороте. В комнату пробрались, требуя, чтобы он слушал только их, посторонние: его лучший друг Фоли и Ганьон, и Джексон и Вольгаст. Они сновали среди его мыслей, расшвыривая их бесцеремонно и безжалостно, чтобы извлечь на божий свет все подозрения, которые он так старательно скрывал от самого себя.
— Вам казалось, — спросил он с притворным участием, — что Уэгстафф всегда будет помнить тот вечер, когда он впервые провожал вас и был с вами так нежен?
— Да, очень, очень нежен…
— У него есть к женщинам подход. Это не всякому дано. Уэгстафф, как вы знаете, это умеет, — проговорил он мягко.
Ну вот, он вынудил ее кое в чем признаться. В чем — он, пожалуй, даже и не понял. Вопли подстрекателей заглушили ее ответ. «К чертям Уэгстаффа! Спроси ее про Уилсона!»
— Вот трубач, тот совсем не такой, — продолжил он после раздумья все с тем же сочувственным видом. С каким трудом выдавливал он из себя слова. Еще два-три, и муки его станут нестерпимей, а девушке придется испытать новую боль, страшнее пережитой, но он обязан довести все до конца.
— С Уилсоном вы были как-то ближе, — с притворной мягкостью добавил он.
— Да, с ним все было иначе, Джим.
— С ним все было иначе, конечно.
— Я знала, что на него я могу положиться.
— Еще бы, — сказал он, и незримые мучители снова заголосили: «С ним было иначе. Уж он-то знал, как нужно обходиться с любительницами черного мяса. Разве другая стала бы обзывать Джексона белым ублюдком».
Чуть приподняв ее голову, он заглянул ей в лицо. Пегги улыбалась, ожидая, и Макэлпин отвел глаза.
— Что с вами, Джим? — спросила она.
— Ничего. То есть… Словом… — начал он, — вы не ошиблись? Вы уверены, что полюбили именно меня?
— Да, Джим.
— Мы очень взволнованы сегодня. Нам трудно разобраться в своих чувствах. Останется ли все для вас точно таким же и завтра?
— Я в этом убеждена.
— И вы уедете вместе со мной?
— Уеду, Джим. Куда вы захотите.
Но ее слова его, по-видимому, не успокоили: он медленно поднялся с кровати.
— Что вас тревожит, Джим? — спросила девушка.
— Ну а если завтра, — начал он нерешительно, — вы поговорите с кем-либо из ваших негритянских друзей, не изменится ли что-нибудь?
— Вы вправе это спрашивать, — сказала Пегги. — Но я в себе не сомневаюсь.
— Вот этого-то мне и хочется, Пегги. Я хочу быть с вами честным и не навязывать вам решений, принятых под влиянием минуты. Завтра вам уже не будет так одиноко. Все опять войдет в норму. Пусть же ничто не повлияет на ваш выбор.
Этими успокоительными словами он попытался замаскировать прокравшиеся в его сердце сомнения. Эта страшная ночь и эта комната… как ему хотелось сбежать от них и встретить Пегги уже утром, где угодно, но не в этой комнате, так тесно связанной со всем этим кошмаром. Он твердил себе, что его унизительные сомнения просто порождение всей этой унизительной ночи, и если они с Пегги расстанутся сейчас, а встретятся уже утром, ему ничто не помешает вновь увидеть ее такой, какой он всегда ее видел. Обнять ее сейчас, привлечь к себе, принять ее любовь, еще не поборов сомнений, не значит ли это унизить ее и согласиться с теми, кто дурно говорит о ней.
— Ничто в наших отношениях… — начал он и замолчал; голос его дрожал, каждое слово мучительной горечью отдавалось в сердце. — Я хочу сказать, нельзя, чтобы это случилось сразу же после всего, что было этой ночью. Вы ведь это понимаете? — спросил он робко. — Так было бы нехорошо. Я поступил бы с вами непорядочно.
Он протянул к ней руки, Пегги встала и взяла их в свои.
— Я понимаю, — мягко сказала она. Они помолчали. Пегги и в самом деле все поняла, но, жалея его, не стада лишать иллюзии, что им руководят самые добрые намерения.
Зато она была теперь как-то по-новому спокойна. С робким достоинством подняла она голову. Это странное спокойствие и тоска одиночества, проглядывавшая в твердом взгляде ее глаз, говорили о том, что Пегги знает, что он предал себя и ее и что теперь она осталась совсем одна.
В этот недолгий миг молчания он попытался уловить то, что приоткрывал ее взгляд, и уже чуть было не угадал это — не разумом, а чувством, но чувство более острое — боязнь, что Пегги ему не поверила и превратно поняла его, было так мучительно, что вытеснило остальное.
— Вы устали, переволновались, так ведь, Джим? — сказала она ровным голосом. — Утро вечера мудренее.
— И мы позавтракаем с вами вместо? — спросил он.
— Я буду ждать вас.
— Я зайду сюда за вами.
— Ладно, Джим.
— Наверное, мои ботинки уже высохли, — сказал он.
Он обулся, и они остановились друг перед другом. Когда он поцеловал ее, прикосновение ее губ наполнило его смутной, но мучительной болью.
— Смотрите же, заприте дверь, — сказал он.
— Непременно.
— Доброй ночи. Доброй ночи, Пегги.
— Доброй ночи, Джим, — ответила она и слабо улыбнулась.
Закрыв за собой дверь на улицу, он остановился. Как поступить, что делать? Пегги наконец-то успокоилась, пришла в себя, но что означала эта слабая улыбка в момент прощания? Она тревожила его. Прислонившись к дверям, он стоял, скрытый тенью от лестницы. «Почему я так уверен, — думал он, — что утром Пегги покажется мне другой?» Как будто кто-то со стороны нашептывал ему эти слова. Это был его внутренний голос, но ему казалось, что он исходит от другого человека. Почему ты думаешь, что утром снова сможешь в нее поверить? Ой, смотри, как бы тебе ее не упустить. Сейчас, только сейчас. Упустишь — не вернется. Что, если к упру обрести веру в нее станет еще трудней и невозможней? И если ты вернешься к ней сейчас — пусть даже подозрительный, ревнивый, грубый, — не все ли вам будет равно, щепетильно ли ты поступил? Он не выдержал, решил вернуться. Но, поворачиваясь лицом к двери, вздрогнул и застыл на месте: к дому приближался чернокожий юноша, совсем мальчишка, лет шестнадцати, не больше.
Это был Эл Джонс, чистильщик ботинок, с которым Пегги часто останавливалась поболтать и посмеяться.
— Эй ты! Чего тебе здесь нужно! — рявкнул Макэлпин.
Этот чернокожий паренек, словно призрак вынырнувший из темноты, разом оживил терзавшие его сомнения. Эл попятился, но Макэлпин решительным шагом двинулся к нему и схватил за плечо.
— Я хотел… — стал объяснять парнишка, — хотел узнать…
И тут он испугался: он увидел глаза Макэлпина. Эл рванулся прочь.
— Ты, паршивец, что ты тут вынюхивал? — бормотал Макэлпин, выворачивая ему руку. — А ну-ка марш отсюда… Мигом, понял?
Он яростно отшвырнул его. Парень, еле удержавшись на ногах, заковылял по улице. Макэлпин угрюмо смотрел ему вслед. Потом бросил взгляд на дверь. «Нет уж… сегодня, видно, все так… еще хуже получится», — подумал он. Он повернулся и крупным шагом направился к перекрестку, глядя на черневший в небе гребень горы. Поблескивая искрами огней, гора, казалось, вырастала прямо поперек его пути, и никогда еще она не была такой темной и такой высокой.