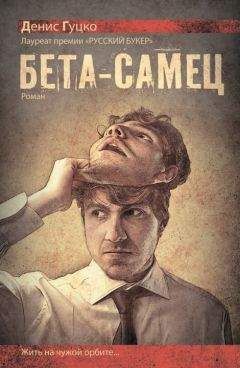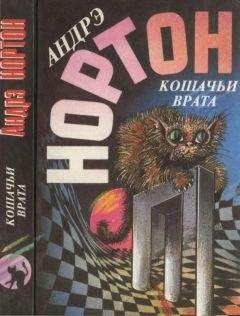О том, что бывший ректор брал взятки, среди бастующих было принято говорить так:
— Брал-то он только с бездарей. И что? Кому от этого плохо? Зарплата у него с гулькин хер. Человек-то хороший.
По мере опустошения пивных емкостей насмешки над «вертухайской хунтой» и возмущения по поводу того, что «по всей стране демократия, а у нас введут строгий режим», сменялись темпераментными дискуссиями об искусстве, о предназначении художника, о личности и толпе. Особенно темпераментно говорил Агафонов, призывавший взорвать наконец любореченское болото, провести какую-нибудь сногсшибательно-ошеломительную выставку.
По своему обыкновению, Агафонов сразу же выбился в лидеры пивной забастовки. Не знаю, как это у него получалось, но к какой бы компании ни прибивало переменчивого Кирюшу, всюду он занимал место вожака и вдохновителя.
В студенческой среде Кирюша слыл гением. Он водил избранных к себе домой и показывал полотна, выдержанные в придуманном им жанре «инстинктивного концептуализма». О его работах было принято говорить исключительно в превосходной степени, потрясенно склоняя голову, смешивая слова «аллюзия» и «бессознательное» с умеренными порциями мата — для остроты восприятия. Кроме того, Кирюша постоянно пребывал на грани отчисления, а однажды даже был отчислен. Работы его — те, которые я видел (а я однажды побывал в числе избранных экскурсантов), — не вызвали во мне ничего, кроме недоумения. Оголтелый эпатаж лишь выпячивал банальность образов. Эйфелева башня с выросшим между ног кабаньим членом (генезис детали разъяснялся в названии: «Эйфелева башня с кабаньим членом»). Толстая волосатая задница под фетровой шляпой, в строгом костюме (названия не помню). Синий ангел с бутылкой «Столичной» и килькой в томате («Синий ангел»). Картины были выполнены топорно, в манере «тяп-ляп-наив», говоря языком Робика Патканяна, преподававшего живопись и композицию младшим курсам. Почитатели Кирюши, однако, рассуждали о влиянии Матисса и Гогена и даже в потеках краски выискивали замысел мастера. В любом карандашном наброске Нинки искусства было больше, чем во всех Кирюшиных полотнах. Но кто знал Нинку? Зато Кирюша мог прийти на занятия в пижаме, или оставить в унитазе кирпич, накидав сверху комков туалетной бумаги, измазанной цементным раствором, или бегать по тротуару, распугивая прохожих трелью велосипедного звонка. И вокруг вздыхали:
— Художник.
Глупо рваться в статисты к дутым героям. Еще один повод порвать с миром искусства (хоть и было все решено, аргументы следовало копить для поддержания боевого духа).
Сходил и я однажды за пивом в «Ракушку». К пивной выстроилась очередь терпеливых страдальцев, делившихся прогнозами относительно объемов и качества завезенного пива и обсуждавших плюсы и минусы других любореченских «точек»: на Театральной наливают по полной, но и разбавляют больше, на Стрелке хрен достоишься — пива там всегда мало, половину портовые забирают сразу. Я послушал пивные мантры и раскис. Что я здесь делаю? Как это связано со мной? Эти бессмысленные пенные люди… Впрочем, и в том, что я оставил на бульваре перед художкой: в речах о предназначении художника, в призывах взорвать болото, в групповом соитии с харизмой — виделась мне такая же бессмысленность, завернутая в драгоценную обертку.
Я вспоминал, что дома у нас живет Зинаида, — несоразмерность этого с забастовкой в защиту Бавальского, с инстинктивным концептуализмом Кирюши была дичайшая. Как соседство «Титаника» с утлой старенькой шхуной.
Стоявший поодаль бугай в клетчатой сорочке долго меня рассматривал. Потом поманил за угол.
— Из художки? — спросил он утвердительно и довольно приветливо.
— Да.
— Агафонова знаешь?
— Да.
— Так хрена ж ты менжуешься? Твои не предупредили, что ли?
— О чем?
— Давай пятихатку сверху и баклажку. Я тебе вынесу, как обычно.
Я отдал деньги и баклажку, и он мне вынес. И даже проводил до угла мимо беспокойных взглядов других бугаев, оставшихся стоять в терпеливо страдающей очереди.
— В другой раз сразу подходи. Х-х-худ-дожник!
Через двадцать минут я отхлебывал из баллона вместе с остальными художниками и слушал Кирюшу. Но лишь до того момента, как он завелся о том, что предназначение творца — будить задремавшие души, а искусство есть то ли инстинкт, вооруженный концепцией, то ли концепция, вооруженная инстинктом.
Я смотрел на пятнистый, грубо залатанный цементным раствором фасад Академии художеств, слышал, как стучат каблуки по тротуару, как воюют коты на крыше, слышал шелест листьев и скрип гончарного круга в скульптурном классе, — я слышал все, кроме слов, разлетающихся над летним бульваром. Зато как никогда остро я чувствовал своих тогдашних товарищей, о чем-то вдруг бурно заспоривших под жиденькое любореченское пиво, — среди этих людей, если одумаюсь и выучусь-таки на х-х-худ-до-жника, мне предстоит жить.
Будущее — как оно виделось борцам за изгнание Нифертити — сводилось к самоутверждению творческой личности в косной и враждебной среде. При этом рецепт такого самоутверждения был вопиюще прост и состоял, собственно, в непрекращающемся противопоставлении творческой личности тупорылой вертухайской власти, узколобому официозу, провинциализму Любореченска, диктатуре попсы, — далее подставлять по вкусу. Жизнь как антоним. Они попса — мы авангард. Они ничтожны — мы глубоки. Они лицемеры — мы правдорубы. Они деградируют — мы растём. Они проиграют — мы победим. Они сволочи — мы молодцы.
Было в этом что-то паразитическое. Какое счастье, что все они есть!
Один наносил краску случайными предметами: кухонной теркой, медицинской банкой, мухобойкой. Другой налегал на инсталляции из разобранных кубиков Рубика, оловянных солдатиков и бутылок из-под кока-колы. Третий делал аппликации из ржавой жести и битого стекла.
Перед тем как покинуть академию, я немного сблизился с ними. Побывал на нескольких вечеринках, на квартирнике, на котором выставлялась чья-то графика. Успел и свои творения показать. И выслушать столько комплиментов, сколько не слышал до тех пор никогда. Здесь оценивали искусство в комплекте с прилагаемым художником. А у меня уже наметилась кой-какая репутация. К тому же я уяснил в общих чертах, как держаться, чтобы удовлетворить запрос здешней публики на настоящего художника. Можно было упросить преподавателей, сдать в авральном порядке все «хвосты»…
Но к тому времени идея-фикс о целебных свойствах казарменного опыта созрела и вела меня прямиком к выбранной цели. По телевизору тогда много говорилось о дедовщине, о голодном пайке. Я был уверен, что такое испытание пойдет мне на пользу. Стачка против Нефертити закончилась недели через две. К ней мало кто примкнул, новое руководство ее игнорировало.
Тем же летом в любореченском кооперативном туалете прошла выставка, гвоздем которой стали работы Кирюши Агафонова.
Здравствуй, армия. Лечи, как умеешь.
Его давно тянуло в этот дом с мезонином — резиденцию председателя дачного кооператива. Дом хоть и был обшит пластиковой вагонкой, выделялся среди остальных устарелым фасоном: окна поуже, крыша острей. Несколько раз Топилин проходил мимо массивных ворот с наваренными проволочными львами, но за отсутствием убедительного предлога войти не решался. Одно дело — военно-воздушный конюх. Совсем другое — Иван Рудольфович, председатель «Яблоневых зорь».
Наружность пожилого председателя Топилин детально изучил по фотографиям в ноутбуке Сергея. Натура действительно была щедра и фотогенична. Нос крупный, но стройный. Мужественная линия рта. Морщин умеренно. Волнистые волосы, посеребренные сединой точно в меру: благородная примета мудрости, моложавый патриарх. Больше всего Топилину понравился Иван Рудольфович в контурном свете, сидящий нога на ногу, обхватив колено руками: голова чуть вбок, во взгляде смесь упрека и призыва.
Однажды Топилин наблюдал за тем, как председатель, высунувшись из окна, тряс кулаком и кричал кому-то:
— А ну, перестали дурью маяться! Я два раза повторять не стану!
Четырежды в день Иван Рудольфович совершал путешествие от своего двора к располагавшейся неподалеку трансформаторной будке: в девять утра, чтобы включить электричество в поселке, в полдень, чтобы выключить, потом вечером, в семнадцать ноль-ноль, — чтобы снова включить, и в двадцать один — выключить окончательно на ночь.
В один из первых морозных дней, надев парадный Сергеев костюм марки «Сан Шайн» под привезенное с собою пальто «Iceberg» — зимний гардероб Сергея состоял из пуховика и куртки, — Топилин отправился к председательскому дому. Подгадал точнехонько к полудню. Иван Рудольфович, лязгая ключами, выходил из трансформаторной будки. На плечи накинута парадная офицерская шинель без погон, под шинелью коричневый свитер домашней вязки.