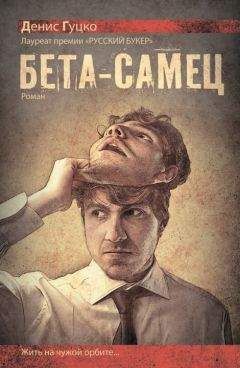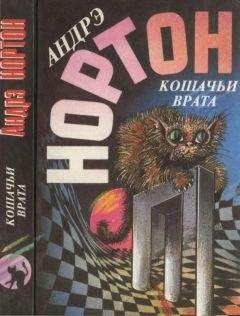— Не мог понять, куда он пропал. Мобильник отключен… Потом одного из наших дачников встретил в городе. От него и узнал. Кинулся расспрашивать. Нашел телефон Юрия Кирилловича, у него тут участок. Какая-то шишка в МВД. Он сначала отпихивался, мои расспросы ему не понравились, но я напомнил ему о кое-какой оказанной услуге, и он под большим секретом назвал ваше имя… и статус в общих чертах описал… Потом вы объявились. Я поначалу порывался к вам сходить, — сказал он, прикрывая ладонью глаза. — Хотел высказать… все… Но вдруг задумался. Этот ваш поступок, приход сюда… из комфортабельной жизни… в дачную аскезу, в которой так долго прожил Сергей… и то, что вы оделись в его одежду… Это выдает в вас человека неравнодушного, страдающего.
Он оторвал ладонь от лица.
— И это меня остановило.
Топилин выбирал между слабым позывом открыть председателю правду о себе — и желанием доиграть эту нешуточную партию, в которой партнер зашел уже так далеко.
«Простите, Иван Рудольфович, что не открылся вам сразу, голову дурил. Я не Литвинов, я не убивал вашего друга. Свидетель, ехал в той же машине».
Имелась, однако, некоторая сложность. Если дойдет до расспросов — а дойдет обязательно, председатель человек въедливый, — чем продолжить и, главное, закруглить свое признание? Как объяснить Рудольфовичу, кто таков Александр Топилин, что связывает его с настоящим Антоном Литвиновым и по какой такой причине оккупировал он дачу покойного Сергея?
«Я, Иван Рудольфович, давнишний приятель Антона. Очень давний. Долго рассказывать. А оказался здесь потому… потому, Иван Рудольфович, что это происшествие, Сережина смерть и… все, что за ней последовало… и его вдова… всего я не могу вам сейчас рассказать… словом, я здесь потому, что вдруг понял… не сочтите за экзальтацию… словом, что меня на самом деле как бы и нет. Понимаете? Не понимаете? Как бы вам… От моего имени жил посторонний человек. Нажил постороннюю жизнь. Понимаете? Не понимаете? Короче, не убивал я никого, до свиданья».
И на выход (не забыть снять бахилы). А если остаться сидеть, Рудольфович наморщит лоб и спросит вкрадчиво: «Извините, кто вы такой, вы сказали? Я как-то не вполне…» — и пальцами воздух потрогает, будто нащупывая… Но ничего не нащупает.
Топилин навалился локтями на колени.
— Вы всё поняли. Мне, в общем, нечего добавить.
Но все же добавил:
— Тяжело.
Иван Рудольфович плакал, ковырнул слезинку сгибом указательного пальца.
— Трагическая история, — произнес он бархатистым полушепотом.
На кухне хлюпала носом Жанна К.
— Когда ко мне пришел Семен с расспросами о стоимости дач, — сказал Иван Рудольфович, — и рассказал, что Сережин друг обещал договориться с ним о покупке…
Топилин насторожился.
— Вы ему не сказали?
— Что вы, — председатель горестно поднял брови. — Но я вдруг с особенной остротой почувствовал, как мучительно ваше теперешнее положение, как вам непросто принять случившееся. Как вы… мечетесь.
Они молчали как-то по-новому. Совместно.
«Какое на этот раз шикарное ненастоящее. Прямо-таки гран-при оторвал, Топилин», — думал Топилин, рассматривая возможность разбить журнальным столиком электрический камин. Затем откланяться и молча выйти (бахилы не забыть!).
— Хорошо, что вы пришли. Хорошо.
У председателя зазвонил мобильник. Взглянув на экран, он извинился перед гостем и нажал на «ответ».
— Да! — бросил Иван Рудольфович в трубку совершенно другим, сухим командирским голосом.
Послушал, добавил:
— Иду. Пороть вас нужно, да некому.
Они вышли вместе.
Возле крыльца председателя дожидалась небольшая делегация — три субтильных мужичка, одетые в серые комбинезоны. Двое из них выглядели лет на тридцать пять, третий был постарше и покрупнее. Всех их Топилин опознал по фотографиям из ноутбука.
— Снова косяк, Иван Рудольфович. В смысле, ну, ошибка. Разнобой пошел, — сказал старший, услышав шаги на крыльце.
Председатель попрощался с Топилиным, побаюкав его руку в своих чутких ладонях, и, придерживая наброшенную на плечи шинель, зашагал, сопровождаемый людьми в комбинезонах, в сторону разлапистых сосен, темневших наискосок от его дома. Взглянув вслед удаляющейся четверке, Топилин заметил, что переулок в той стороне спускается в глубокую, искусственно расширенную ложбину, в которой вытянулось странное подслеповатое здание с узенькими ветровыми окошками там, где должны бы располагаться обычные. Увенчанные покатыми пластиковыми навесами, окошки вытянулись вдоль монотонного фасада. В здании было два этажа, оно напоминало обрубок тракторной гусеницы.
Бросая теннисный мяч о стену, Топилин раздумывал, сумеет ли сыграть того, в чьей жизни квартировал так долго. Наверняка непросто — второму сыграть первого.
К тому же предстояло побыть человеком, который убил — да-да-да, случайно, совершенно случайно — убил другого человека и теперь мается всем своим крепким нутром, не понимает, что с этим делать. Смущен, потерян. Ищет себе хоть какой-нибудь кары… говорят, помогает… потому что — ну кто еще накажет, если не сам — он же Литвинов… не положено ему, как обычному лоху, по судам… не положено, не по чину, нельзя.
Вернувшись из своего монастырского вояжа и уладив мировую, Антон лип к Анне постоянно. Анна Николаевна то, Анна Николаевна это. Отвезти ли вас? Встретить ли? Прислать ли водителя или, может быть, Сашу?
А Саша брал себя в руки и делал лицо.
Как много его — Антона Литвинова. А ведь казалось — только бизнес, ничего личного. Жаль, не удалось его побить… Ребячество, конечно, но хоть что-то.
Когда месяц светит тускло, как сейчас, черные груди, торчащие на востоке, особенно хороши. Без лишнего света, разъедающего иллюзию подробностями, я легко представляю себя степным великаном, явившимся на свидание к степной великанше. Раскинулась нагая в ожидании любви. Я готов. Но я не спешу… Спасибо старшине Бану — теперь я знаю, что чем дольше, тем лучше. И что когда ей приятно, она всё для тебя сделает, всё. Про «всё» в исполнении Тони старшина Бану повествует с особенной гордостью.
Жизнь, оставленная мной на гражданке, раздражала бесконечной болтовней. Что в телевизоре, что в студенческой богеме — всюду зудели, жужжали, свербели разговоры, не только не подразумевавшие никакого дела, но почитавшиеся за дело первостепенной важности. Я никак не мог предположить, что в армии погружусь в атмосферу не менее болтливую, чем в компании «отпетых» из моей художки. Здесь, конечно, не рассуждали о творцах и толпе. Солдатский досуг был насквозь пропитан порнобайками.
Деды, предвкушающие увольнение в запас, на посиделках после отбоя, в прокуренных каптерках, под самогонку или чифирь, мечтают о том, как дорвутся до своих Светок и Люсек или завалят наконец когда-то несговорчивых Наташек и Татьян. Перекур салажат, затянувшийся без офицерского или дембельского присмотра, почти неизбежно заканчивается сагами о половых подвигах на гражданке — и даже самым зачуханным, истерзанным казармой в хлам, дают досказать, прежде чем высмеять. Болтают не только о случайных секс-трофеях, но и о девушках — своих невестах, говоря высоким штилем. Женатые — встречаются в части и такие, — поддаваясь общей болтливости, пускаются в воспоминания об исполнении супружеского долга.
Жара здешняя, что ли, влияет? Или это мне всюду чудится порнушка?
Кажется, я единственный девственник в полку. В рядах вооруженных сил, в окружении говорливых самцов, готовых обсуждать любой половой акт — не только собственный, но и виденный в кино, — девственность превращается в неподъемный груз.
К пошлости привыкаешь легко. Достаточно чем-нибудь ее объяснить: трудной жизнью, грубой средой, — да чем угодно, назови хоть защитной реакцией, и пошлость становится поводом для жалости. Впустить пошлость внутрь, чтобы сделаться как все, чтобы стать простым, как я мечтал, отправляясь в армию, оказалось нелегко.
Я попробовал. Написал письмо Нинке — лирическое, гнусное по замыслу. Написал, что многое понял, очутившись здесь, осознал, насколько она мне дорога. Просил приехать. Под свидания с приезжающими телками сослуживцы освоили штабеля металлолома за ремротой. Управлялись между закатом и вечерней поверкой… «Приедет, трахну, а на гражданке сразу брошу», — простую эту мысль я вертел в голове целыми днями. И еще — придумал, как отвечать тем, кто съязвит насчет Нинкиной внешности: «Вы бы знали, какая она мастерица!»
Письма того я не отправил. Сначала ждал, пока уйдет в отпуск почтальон Величко, про которого было известно, что он вскрывает письма и особенно понравившиеся придерживает на время — перечитывает. А потом я получил письмо от мамы, в котором она — чудесное совпадение — сообщала, что встретила на улице Нину. Только и всего: встретила на улице. Нина была, как всегда, приветлива, очень интересная девушка, подрабатывает рисованием детских комиксов, передавала тебе привет. Но и этого — упоминания Нинки в письме матери — хватило по уши. Спохватившаяся совесть устроила мне такой разнос, что я впал в бессонницу на двое суток. Реальность плавилась, как асфальт на дневном солнце. Тогда-то я и начал ходить сюда, к сисястым этим сопкам.