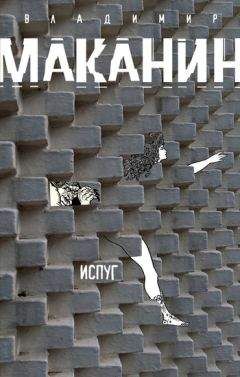Они же не умеют держать удочку! А что за узлы на крючках!.. Я потешался над их безрукостью, над их уловом, их мелкой рыбешкой – «кошке? кошке разве что?». Я издевался над ними: даже место у реки не сумели выбрать! «С чего это вы сели жопами на занюханный обрывчик! Вы же у рыбы на виду! На ярком солнце!.. Рыбки хихикают!» – Я небрежно шлепал ладонью по их странным непружинящим удилищам. Эк расставились!
Они угрюмо ворчали. Но без агрессии. Кто я был для них? Тронувшийся старик чиновник?.. Акакий Акакиевич, спятивший от долгого кабинетного усердия под дулами танков. Не покинул этаж. Не покинул рабочее место… В отличие от многих… Бедняга, мол!.. Возможно, они (постовые) меня попросту жалели и щадили.
А я меж тем перешел к самому изысканному рыбацкому оскорблению. Оно заключается в том, что их мелкий улов ты считаешь экологической порчей. Есть такой указ Рыбнадзора: не губить малька. Есть и статья, между прочим. То есть всё, что с трудом поймали, – всю их мелочовку в сетке я издевательски посчитал мальками. «Вам не сойдет с рук. Клянусь, завтра же настучу в Рыбнадзор!» – серьезничал я. Я вошел в роль охранителя природы. Решил сам разобраться с теми, кто портит рыбий генофонд. Принять меры! А в таких случаях – снасть изымают…
Я ухватил удочку одного из них – я видел, что автомат, что классический «калашников»! – однако же твердо хотел его изъять, конфисковать.
– Ну-ка отдай! Отдай!.. Сдай по-быстрому!
Постовой опешил: «Спятил! Спятил, старый лось!..» Но я тянул и тянул автомат к себе. Настойчиво… И я продолжал издеваться:
– Сдай инвентарь. – …………………………………………
…………………………………………………………………………………
Тут наступило прояснение. Я увидел у них автоматы, все три – я увидел, что никакие не рыбаки, а вояки. Правда, с побелевшими лицами. И что они как-то трусоваты. Это же никуда не годилось!
И тогда я сделал дружеский шаг к тому вояке, что так робко выставил дуло автомата в пустой квадратик окна. Я хотел расположиться рядом с ним. И забрать на время его автомат. (Я в дневном дозоре!)
– Да, я староват. Но мы будем биться рядом.
Хотел поднять им боевой дух. Я хотел повоевать, пусть это и не спасет наш парламент.
– Спятил, отец!.. Вали отсюда! Давай, давай! – Молодой мужик совсем разъярился.
Другой, с острым, хищным лицом, тоже раздражился:
– Спускайся! Спускайся!.. Уходи вниз! Дочка твоя уже давно внизу… – И он уточнил у третьего: – Спустилась она вниз?
– Мелькнула! – кивнул третий.
Напомнили о Даше, и я пришел в себя… Отчасти… И настроение мое круто переменилось. Я стал пацифистом. Я – малек. Я стал мелким – и я уже жалел всю прочую мелкую рыбешку… Брошенную на прикорм.
В ту пацифистскую минуту мне было без разницы – те или эти. Влезет ли Ельцин на танк, или Хазбулатов вскарабкается на Мавзолей…
А трое, отчасти испуганные, вдруг схватили меня за руки. Выкрутили… Какая-то бессмысленная акция. Два рыбака прижали меня к полу и не отпускали. Они увязывали мне руки ремнем. (Опять стали рыбаками. И солнце, искря, катилось по большой реке.)
А я (тоже, в общем, без смысла) кричал – мне, мол, жаль рыбешку. Малька жаль! Убивать людей! Убивать ни за что! Не стану…
– Надоел. Заткните рот этому придурку!
Третий из них, побледневший, посмотрел на часы.
– Время, – сказал он.
– Сколько?
– Минуты четыре… пять…
А я продолжал бесноваться:
– Правде рот не заткнешь! Малька жаль!
Они решили уходить. Лица совсем бледны. Всех их сильно трясло. Один вдруг выронил автомат, поднял… опять выронил.
«Правде – нет, а тебе рот заткнем», – мстительно нашептывал тот второй, с хищной харей, и за неимением лучшего стал заталкивать мне в пасть самодельный кляп. Смятый в ком пластиковый пакет, подванивающий рыбой… Жареной рыбой!.. Лещом… (Рыбак рыбаку.) Чтобы я замолк. Хотя зачем ему мое молчание, если он уходит?.. А ни за чем. Им было страшней при моих воплях, вот и все.
Я вертел головой, а он запихивал в меня пакет… все глубже. Вонючий пластиковый ком. Но вот тут ша-ра-рахнуло. Да как!..
Дом сотрясся. Меня подбросило на ступеньках. Кляп выскочил у меня изо рта мигом. «А, ч-черт!» – Этот второй, стуча ногами и бренча оружием, кинулся по ступенькам вниз. Они все разом побежали. А я, когда шара-ра-рахнуло, я еще разок здорово подпрыгнул на месте. Зато и руки развязались сами собой. Неумехи-рыбаки вязать, конечно, не умели. (Интересно, кто из них пожертвовал ремень?) Неумеха бежит сейчас подергиваясь, хром-хром, восемь на семь! Я так и видел его бегущего… По ступенькам!.. Придерживая и автомат, и штаны.
Я, признаться, тоже проскочил с перепугу этажа три сразу. Наверх ли (к Даше) или вниз (в направлении цокольного этажа, где сейчас все) – я даже не помню. Помню только, что одним духом шесть пролетов… Но остановился. Пожалел старое сердце. Кое-как пришел в себя. Значит, эти скучавшие танки уже стреляют. Прямо с моста? Прямо по Дому. Трахают его большое бело-розовое тело?..
Как же Даша?.. Внизу?.. Страх подсовывал самое простое решение: бежать вниз. Но я сказал себе – стой. Я даже зауважал себя. Стой! Сосредоточься… Если Даша внизу, ты ее в общей толчее не найдешь. В цокольном этаже – сотни людей. Там тыщи… Считай, потеряна… А вот если Даша наверху…
Шарах-шарах-ша-ра-рах! – раздалось над головой. Два кряду удара из танковых орудий… Стены, казалось, заныли… Вибрировали от разрывов. Весь дом гудел.
Но более всего сотрясался пол. Подвижный пол – это нечто… На этот раз я не подпрыгнул, а только прибавил машинально шагу по коридору. (Искал Дашу.) Пятый и сразу шестой ша-ра-рахи. Каждый раз я вжимал голову в плечи. И косился на отскакивавшие, летящие вразброс куски штукатурки – осколки стен.
Один удар пришелся рядом со мной. И вслед за грохотным звуком я увидел, как на правой от меня стене расцвел цветок. Цветок все голубел и голубел. «Надо же какой!» – подумал я.
– Краси-ииво!..
Этот цветок – пробоина (и довольно высокая) в стене. А сквозь пробоину – небо… Небо голубело в далеком далеке.
– Краси-ииво! – еще раз протянул я. (От страха хотелось что-то говорить.)
И еще под два или три ша-ра-раха я бестолково бегал туда-сюда. Наконец выбежал к лестнице… Там, казалось, проще… Но на лестнице, на первых же ступеньках, улегся раненый. Рядом валялся его автомат. И два знакомых мудака, тоже с автоматами, стояли онемевшие и с открытыми ртами… Смотрели, как упал и корчится их товарищ.
Это были те самые постовые. Они так и не сбежали в цоколь. Так и не успели… А раненый был тот самый, с хищным лицом, что заталкивал мне в рот из-подрыбный пакет.
На его бедре проступило и расплывалось этакое пятнище крови. Сквозь светлые брюки. Похоже, осколком… Или куском стены… Лицо раненого, совсем белое, уже не казалось мне таким хищным. Зато хищным казалось его пятно. На его брючине… Кровавое, как нарисованное, пятно, проступавшее зловещей темной харей.
Вновь ша-ра-рахнуло – и ступеньки под нами подпрыгнули. Со мной что-то случилось. Я был как в вате… Как в огромном коме ваты… Я видел, как эти двое кинулись к сотоварищу, чтобы помочь. Понесли его… Но забыли автоматы… Опять положили… Кряхтя, браня друг друга за неловкость (и болтая неудобно висевшими на шее автоматами), они потащили раненого вниз. Мимо меня проплыл его открытый, вопящий рот… Мысль их была проста. Уйти поскорее.
Из лежащего на боку баррикадного стола вдруг с грохотом вырвалось его содержимое. Сотрясением от разорвавшегося снаряда… Ящики выскочили играючи. (Вдоль по своим хитрым внутренним рельсикам.) Ящики как бы выстрелили и легко помчались по ступенькам лестницы вниз. Но их опередили их собственные бумаги. Бумаги, в свою очередь, с еще большей скоростью выпрыгнули из движущихся ящиков. Стопы кабинетных бумаг… Обгоняя все и вся, бумаги хлынули вниз по ступенькам… Бумаги сбегали вниз белым ручьем. Они достигли меня. И все ускорялись… Отделяясь и скользя одна по одной.
Я стоял на полпролета ниже. Действо бумаг проскочило меня с легкостью. Ручей мчал!.. Забыв ша-ра-ра-хи, забыв Дашу, забыв все на свете, я присел над бегущей «водой»… Я полоскал в скользящей бумаге руки. В этом было что-то завораживающее! Как только не порезался листами!.. Сначала я, кажется, хотел собрать их. Инстинктивно. Собрать хоть немного – хотел кому-то помочь!
Мне, присевшему и полощущему руки в бумажном ручье, стало всё без разницы. Я держал руки в проточном ручье бумаг. Иногда я хватал лист, какую-то страничку, бегло зачем-то смотрел и вновь пускал вниз – по течению.
Даша… Уцокавшая на каблучках куда-то вверх. Присев на ступеньке, я думал о ней. (Руками я все еще перебирал белые листы бумаги. Белые с одной стороны.) Я не мог бросить Дашу, как не бросают раненого. Такая правильная пришла мысль. Как не бросили те двое своего вопящего…
Я почувствовал, что не хотел бы в жизни больше ничего – только погрузиться ладонями и пальцами в ее светлые волосы. В ручей ее бегущих мягких волос. (У меня потихоньку встал. Это было ужасно некстати.) Один, на опустевшей лестнице, когда вокруг беспрерывно ша-ра-рахало, старикашка сидел весь притихший и немыслимо, непередаваемо хотел Дашу… Сидел на ступеньках (по щиколотку засыпан стекающими вниз бумагами). И сам себе мечтательно улыбался.