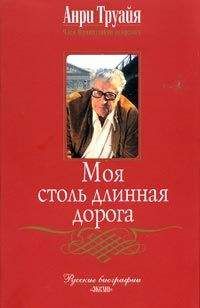Она говорила так властно, словно точно знала, что я не могу не подчиниться. Я и подчинился. Новый фиакр доставил нас на авеню Монтеня. Разливы оркестровой музыки были слышны издалека. Мелькнула мысль, что этот грохот должен помешать мирному сну Жоржа дʼАнтеса. Но может ли Дантес спать спокойно после того дня, как он столь сознательно, столь злодейски застрелил Пушкина? У него же на совести убийство!
Входной билет в «Мабилль» стоил для кавалеров пять франков, для дам — один франк. Танцевать на улице было уже слишком холодно, зато внутри, в помещении — что за жара, что за сутолока, что за грохот! Пестрая, разноцветная толпа трясется, будто в лихорадке, женщины напропалую виляют задом в бешеном ритме «chahut» — как он все-таки малопристоен, этот танец, придуманный в середине века, по-русски для него и названия-то нет никакого… Юбки летят по воздуху, рты смеются, лбы от непрерывного адского кружения покрыты потом… Женский визг время от времени перекрывает звуки оркестра… На родине я никогда не присутствовал при подобном безобразии, никогда не был в таком месте. И, глядя на стольких людей с безумно-радостными взглядами, думал, а не провалился ли я внезапно в ад наслаждений? Именно что в ад, не вознесся в райские кущи! Эти люди, беззаветно преданные пустяку, ерунде, какую вину искупают они здесь, в самом пекле? Воздух провонял мерзкими духами. Публика совершенно явно состояла в основном из легкодоступных и падких на удовольствия лореток, девиц на час, сбитых с панталыку буржуа, лжеденди, ищущих фортуны, идущей прямо в руки… Адель словно наэлектризовали: просто-таки застоявшаяся цирковая лошадь, которую выпустили наконец на манеж. Она немедля меня бросила, пойдя за седеющим толстячком с усами и бакенбардами, на пузе которого висела в два ряда золотая цепь с довольно грубыми звеньями, вся сплошь завешенная брелоками. Удаляясь, моя странная подруга послала мне знак рукой, потерев пальцами так, будто сминала шелковую бумажку. Что бы это такое могло быть? Но что бы то ни было, едва она скрылась из виду, я направился к двери.
На улице моросило, вскоре дождь разошелся всерьез. Было страшно трудно нанять экипаж, чтобы добраться домой, на улицу Миромениль. Здесь, в коридоре, ведущем в мою комнату, я столкнулся с Даниэлем де Рошем, выходившим из своей. Он провел вечер во Французском театре, и отчет его прозвучал так: не стоило даже из дому выходить! А когда узнал, что я только что из танцевального зала «Мабилль», стал меня поздравлять:
— Это одно из самых посещаемых в столице мест! Там собираются и сливки общества, и отбросы его. Ну, нашли обувку по ноге?
— Слишком громко сказано, — пробормотал я в ответ.
— Но на завтра есть хоть что-то многообещающее?
— Ничего.
— Как жаль!
Даниэль смотрел на меня, словно бы по-братски сочувствуя.
И я вдруг спросил — неожиданно для себя самого:
— Не знаете ли адрес Имперского Клуба?
— Как же не знать! Буасси-дʼАнгла… А зачем вам?
— Да так, я же путешественник, турист — вот и любопытствую… Наверное, ужасно изысканный клуб?
— О да! На мой взгляд, самый изысканный из всех!
— И попасть туда, конечно же, страшно трудно?
— Точно, черт побери! А вам бы хотелось попробовать?
— Да что вы! Разумеется, нет! — поторопился я с ответом и добавил: — Говорю же, любопытен без меры.
— Все члены этого клуба — люди архиизвестные с архипрекрасными рекомендациями таких же архиизвестных лиц, — заметил он, окончательно меня разочаровывая. Сроду мне не попасть в такой клуб!
Но я на всякий случай уточнил:
— Говорят, барон Жорж де Геккерен дʼАнтес членствует в этом клубе?
— Меня бы это ничуть не удивило. Я много чего узнал о нем в редакции своей газеты. Но с какой стати он так вас интересует?
Я испугался, что выдал себя, что перегнул палку.
— Матушка с ним встречалась тут, в Париже, несколько месяцев назад, — сказал я тупо, но нельзя же было не объясниться. — И она рассказывала мне о нем как о человеке совершенно очаровательном.
— Ох, не то слово, не то слово! — воскликнул Даниэль. — Тут не просто в обаянии дело. У него громадный вес в политике, коммерции, промышленности. Он Генеральный советник департамента Верхний Рейн, сенатор с жалованьем тридцать тысяч франков в год, он приближен к императору, что, естественно, использует для продвижения своих дел. Это он настоял на необходимости строительства первых железнодорожных линий в Эльзасе — ну, разумеется, вместе с братьями Перейр[11]. Всех этих чертовых финансистов вы найдете в страховых компаниях, морских, в банках… И везде они только и делают, что набивают свои карманы. Ваш барон создал, кажется, даже Парижскую газовую компанию и стал сам ею руководить. Вот шельмец! Можно подумать, он в сорочке родился!
Я слушал, как мой сосед перечисляет успехи Дантеса, и мозг мой постепенно закипал. И накатывал гнев. Чем больше я узнавал о фантастическом везении моего врага во всех областях жизни, просто во всем, тем сильнее его ненавидел. Если бы он влачил свои дни в скромности, в скудости, возможно, я не нашел бы в себе мужества его устранить? Однако мало-помалу персонаж этот вырисовывался в моем воображении все ярче, все убедительней — со всем своим могуществом и со всеми своими отталкивающими свойствами. Любопытству моему уже было не остановиться, и я перебил Даниэля:
— Но… но знаете ли вы хоть что-то о его личной жизни?
— Почти ничего, — отвечал Даниэль. — Тут он крайне сдержан. Мало появляется в свете. Слышал, будто он потерял свою супругу и, хотя мадам дʼАнтес скончалась уже более четверти века назад, больше не женился, а дети его и внуки вроде бы живут вместе с ним на авеню Монтеня. Вот и все, что мне известно, да и то, повторяю, по слухам. Да расскажите же лучше, что было в танцевальном зале! — без всякого перехода воскликнул сосед. — Вам понравилась непринужденность… хм… разнузданная атмосфера этого Богом проклятого места?
— Да как сказать… и да, и нет… я скоро ушел оттуда.
— Понимаю, понимаю… Нет ничего однообразнее разврата! Ладно, доброй вам ночи, друг мой! И не глядите во сне на одалисок, которых там встретили.
Я расхохотался и заверил его, что ни одна из этих дам не взволновала меня до такой степени, чтобы осаждать мои сновидения.
И тем не менее, стоило улечься в постель, воспоминание об Адели нахлынуло на меня, и видение было столь ясным, что немного бесило. Но, с другой стороны, какой двадцатилетний юноша не хранит хоть сколько-нибудь благодарности к той, кто его просветила? Все во мне говорило о том, что это она, она превратила меня из мальчика в мужчину. Я опасался только, что знакомство с физической, телесной любовью отразится на моем поведении в качестве рыцаря правого дела. Смогу ли я оставаться столь же решительным теперь, когда узнал плотские радости? Устою ли против искушения предать Пушкина ради Адели? Я никак не мог отделаться от мысли о том, что женщина привязывает к себе мужчину лишь из тайного желания его обезоружить. И мне казалось, что женщина — истинный, природный враг величия души.
В комнате было холодно. Ледяной ветер задувал во все щели, во все зазоры. Я вертелся под одеялами, гордый своей доблестью в любви и пристыженный тем, что забыл о Пушкине, пока лежал в постели с Аделью. Ни заснуть, ни хотя бы успокоиться так и не смог, зажег лампу, стоявшую у изголовья, вытащил из дорожного несессера маленький, переплетенный в сафьян томик (избранные сочинения моего Поэта) и раскрыл его наугад. Грозные строки «Кинжала» так и бросились мне в глаза. Это лирическое обращение к оружию с поручением смыть все обиды, все оскорбления, все несправедливости показалось мне наделенным пророческим смыслом. Я вполголоса, самому себе, прочитал знаменитое посвящение автора убийственному клинку, светящемуся в тени того, кого он намеревается убить… кого ему хотелось бы уничтожить…
Лемносский бог тебя сковал
Для рук бессмертной Немезиды,
Свободы тайный страж, карающий кинжал,
Последний судия позора и обиды!
Где Зевса гром молчит, где дремлет меч закона,
Свершитель ты проклятий и надежд;
Таишься ты под сенью трона,
Под блеском праздничных одежд.
Как адский луч, как молния богов,
Немое лезвие злодею в очи блещет,
И, озираясь, он трепещет
Среди своих пиров.
Везде его найдет удар нежданный твой:
На суше, на морях, во храме, под шатрами,
За потаенными замками,
На ложе сна, в семье родной…[12]
Как обычно, Пушкин точно воспроизвел мои мысли в словах, осветил мне путь… Ведь подумать только: ни разу не было, чтобы в таких случаях не открылось его мистическое, сокровенное, его магическое влияние на меня! И что бы там ни было, я должен ему повиноваться. Беспрекословно. От этих рассуждений моя тревога улеглась, но глаз было все равно не сомкнуть. Я встал, надел сорочку и принялся писать матушке — о том, как мне нравится Париж, о том, что здоровье потихоньку улучшается, и о том… о том, что единственные сожаления вызывают у меня обстоятельства, которые до сих пор не позволили мне встретить никого из тех особ, коим матушка хотела меня представить, а напоследок — что не забыл о необходимости переезда в Ниццу. Уточнил: в один из ближайших дней.