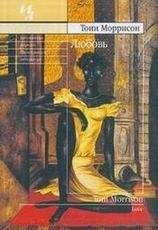Знакомит нас, а сам, чувствую, нервничает. Это Грейси Мэй Стил, говорит. Я хочу, чтобы ты все обо мне знала. Понимаешь... А она на него такой взгляд метнула — прямо испепелила.
Прошу вас, входите, Грейси Мэй, говорит, и только я ее и видела.
Он совсем растерялся, не знает, что говорить, что делать; надумал повести меня на кухню. Прошли мы через прихожую, гостиную, комнату для утренних завтраков, через столовую, по коридору для слуг и в конце концов попали на кухню. Первое, что мне бросилось в глаза,— это пять плит. Похоже, он хотел меня представить одной из них.
Погоди-ка, говорю. Кухнями я не интересуюсь. Посидим лучше на крылечке.
Отправились мы в обратное путешествие, а на крыльце уселись в кресла-качалки и прокачались до самого обеда.
Грейси Мэй, говорит он за обедом и берет кусок жареного цыпленка с блюда, которое держит женщина у него за спиной, я тебе приготовил небольшой подарок.
Дом. Угадала? — спрашиваю я, подцепляя вилкой гарнир.
А ты избаловалась, говорит Трейнор. Очень смешно он произнес это слово — половину букв будто раздавил. Точно язык у него стал такой большой, что еле помещается во рту. С цыпленком он разделался в одну минуту, теперь занялся свиной отбивной. Я и правда избаловалась, подумала я.
У меня ведь есть дом. И Хорас в эту самую минуту красит в нем кухню. Я сама купила этот дом. И моим детям в нем хорошо.
Но тот, что я тебе купил, почти такой же, как мой. Разве что чуть поменьше.
Не нужен мне дом. Да и кто в нем будет убирать?
Он посмотрел на меня с удивлением.
До чего же туго до некоторых людей доходят самые простые вещи, подумала я.
Мне это и невдомек, говорит. Хотя какого черта, я тебе кого-нибудь туда поселю.
А я не хочу чужих. Они мне действуют на нервы.
Действуют на нервы?
Да. Не хочу проснуться поутру, а в доме какие-то люди, которых я даже не знаю.
Он сидит против меня за столом и смотрит. Об этом ведь тоже есть в песне, да? — спрашивает. Хоть и не сказано словами. Не хочу проснуться поутру, а в доме — чужие люди. А у меня тут их целая орава, чужих, включая жену.
Хотя чего бы и не проснуться, когда на столе такая вкуснота, говорю я. У тебя тут волшебник пекарь — такого кукурузного хлеба я сроду не едала.
Он пристально на меня поглядел. И засмеялся. Только тут же оборвал смех.
Всем нужно то, что у тебя есть, а не ты сам, говорит. Всем нужно то, чем ты владеешь, да только это — не мое. Когда я пою, все прямо с ума сходят. Что-то чуют, а распознать, в чем секрет, не могут. Носятся по следу, точно свора гончих.
Это ты про своих обожательниц говоришь?
Про них самых.
Ты о них больно не тревожься. Они кукареканья от мычанья не отличат. Сомневаюсь, чтобы среди них хоть одна понимающая нашлась.
О том я и толкую. О том самом! — Он стукнул кулаком по столу. А стол до того массивный, даже не дрогнул. Хочу, чтобы публика была настоящая! На кой черт мне эти девки — под ноги стелются.
Знаешь, говорю, в моей жизни когда-то тоже так было, хотя такая слава мне и не снилась. Только начни я петь чужую песню,— тут бы мне и конец.
Видно, он нажал под столешницей кнопку звонка — перед нами вдруг вырос один из его холуев, словно призрак вышел из воздуха.
Дай мне Джонни Карсона, говорит Трейнор.
К телефону? — спрашивает призрак.
А то как же? С крыльца, что ли, его приведешь? Пошевеливайся, ну!
Через две недели мы поехали в концертный зал Джонни Карсона.
Трейнор, видать, затянулся в корсет — чуть полноват, но выглядит шикарно. Психопатки, что помешались на нем и на моей песне, вопят что есть мочи. Трейнор говорит: леди, которая написала самую первую, самую знаменитую мою песню, сегодня с нами, здесь, и она согласилась спеть для нас эту песню так, как пела ее сорок пять лет назад. Леди и джентльмены, перед вами великая певица Грейси Мэй Стил!
Уж как я старалась сбросить пару фунтов к этому событию, да только зря, ничего не получилось, и тогда я сшила себе большущий балахон. Подкатываюсь я этаким шаром к Трейнору, а тот возле меня вроде бы превратился в карлика и когда протянул руку, чтобы обнять меня, в зале поднялся смех.
Вижу, он разозлился. А я улыбаюсь. Надо же, двадцать лет вопят, а чего вопят-то? Ведь песня начинается, это же чувствовать надо.
Ничего, сынок, говорю. Ты за меня не беспокойся.
Я запела. Песня хорошо зазвучала. Чтобы хорошо петь, вовсе не обязательно иметь хороший голос. Хотя голос, конечно, не мешает. Только если ты посещаешь баптистскую молельню, как посещала я, ты с детства уразумеешь, что тот, кто поет,— певец. А те, что ждут ангажементов, программ и рекомендательных писем,— просто хорошие голоса, помещенные в чье-то тело.
Ну вот, пою я, значит, свою песню, как когда-то ее пела. Отдаюсь ей вся без остатка и наслаждаюсь каждым мгновением. Допела. Трейнор стоит и аплодирует, а сперва поклонился мне и залу, словно я и вправду его мать. Зал вежливо похлопал — секунды две, не больше.
Вижу, Трейнора передернуло.
Подходит он ко мне и опять хочет меня обнять. Зал смеется.
Джонни Карсон смотрит на нас с опаской, верно, думает, мы оба спятили.
А Трейнор в бешенстве. По программе он должен был спеть какую-то балладу о любви. Но вместо этого он берет микрофон и говорит, обращаясь ко мне: «А теперь проверим, точно ли я тебе подражаю или что забыл». И начинает петь ту же песню, нашу песню — теперь я так считаю, и глядит в зал. Поет он, как всегда ее поет: мой голос, моя тональность, мои модуляции — все мое. Только пару строк позабыл. Он еще не кончил, а припадочные завопили.
Садится он подле меня, и вид у него побитый.
Ерунда, сынок, говорю я и глажу его по руке. Ты ведь этих людей даже не знаешь. Ты тех, что знаешь, постарайся сделать счастливыми.
И про это тоже есть в песне? — спрашивает он.
Может, и есть, говорю.
1977
Год-другой он еще давал о себе знать, а потом исчез. В ту пору я всерьез взялась за свой вес, мне было не до Трейнора. Можно сказать, я наконец взглянула правде в глаза. Больше это терпеть невозможно, решила я, чуть ли не с самого дня рождения я стараюсь себя обмануть. Да и, честно говоря, когда старость всерьез подступает, мало приятности от таких телес. Тяжелеешь все больше и больше, и тебя словно в разные стороны развозит. Фу! И тут я твердо заявила Хорасу, что хочу сбросить с себя всю эту дрянь.
Хорас составил мне программу — он человек обстоятельный, и — господи ты боже мой! — началось: салат, творог, фруктовый сок, салат, творог, сок.
Как-то ночью мне приснилось, что Трейнор разошелся со своей пятнадцатой женой. Знакомишься с ними, говорил он мне, назначаешь свидания, женишься, а зачем — непонятно. Я все это делаю, но, может, это и не я, а кто другой? Сдается мне, что я и не жил вовсе...
Что-то с ним неладно, говорю я Хорасу.
Ты это не первый раз говоришь, отвечает он.
Разве?
Ты не раз примечала: он, мол, вроде полуспит. Только ведь нельзя проспать всю жизнь, если хочешь жить.
А ты, оказывается, не дурак, сказала я Хорасу, встала — теперь приходилось опираться на трость — и поковыляла к нему. Дай-ка мне посидеть у тебя на коленях, говорю, что-то я от этого салата совсем ослабела.
В то самое утро нам сообщили, что Трейнор умер. Кто говорил — от толщины, кто — от сердца, кто — от пьянства, а кто — от наркотиков. Позвонила одна из наших внучек из Детройта.
Эти идиотки, говорит, сейчас все сами поумирают. Включите телик.
Но мне не хотелось на них смотреть. Плачут, плачут, а чего плачут — сами не знают. И что это творится с нашей страной, подумала я, беда, да и только.
Перевод И. Архангельской
Как мне удалось убить одного из лучших адвокатов в штате и выйти сухой из воды? Да очень просто.
Мои родители не были женаты. Я ни разу в жизни не видела отца. Впрочем, мать его, наверное, любила: она никогда не жаловалась на него. Он как бы просто не существовал. Мы жили в Птичьем переулке. Почему он так назывался — не знаю. Думаю, там раньше была птицефабрика. Это недалеко от центра. До Капитолия[1] меньше десяти минут ходьбы. Я видела его купол — он был золотой — прямо из нашего дворика перед домом. Когда я была совсем маленькой, я думала, что этот купол из настоящего золота — он так сильно блестел,— а позже городские власти водрузили на его верхушке орла, но, гуляя возле Капитолия, я не видела с земли верхушку, она находилась слишком высоко, и я смотрела не вверх, а вниз, на траву, и гладила ее, протягивая вперед руки. Трава была как пушистый ковер — упругая, шелковистая и высокая. А кроме того, там росли большие старые деревья. Дубы и магнолии; я восхищалась красотой магнолий и один раз вечером даже влезла на дерево, сорвала цветок и отнесла домой. Но он увял в атмосфере нашего дома: как только я внесла его в комнату, стал коричневым и лепестки осыпались.