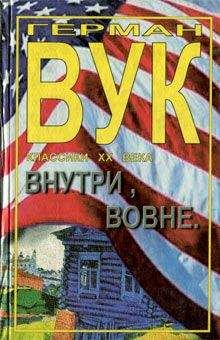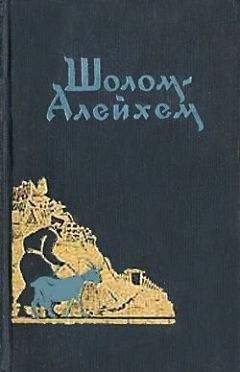Так вот. Как всем известно, когда вскипает молоко, на поверхности образуется пенка, она на литовском диалекте идиша называется плойка. В детстве меня от нее просто тошнило. Когда мама делала мне какао, она прежде всего снимала с него пенку. Потому-то она при этом однажды и рассказала мне историю своей драки с мачехой, и потом я слышал эту историю сотни раз. В Минске — или, может быть, только в доме моего деда — плойка считалась, видимо, редчайшим деликатесом. Икра, трюфели, фазаны, персики в шампанском не шли ни в какое сравнение со свежей, липкой, желтоватой плойкой. Мамина мачеха, раввинша из соседнего городка под названием Кайданов, родила моему деду семерых детей, и, по маминым рассказам, они всегда получали плойку, а мама — никогда. Эта кайдановская гарпия не только таким подлым образом дискриминировала свою падчерицу, она еще и люто ненавидела маму и все время ела ее поедом за то, что та была куда красивее, чей ее собственные дети. Я цитирую маму. Она говорит также, что Кайданов был известен тем, что все тамошние уроженцы были отпетые сволочи.
Ну, так вот, то, что маме не давали плойки, ужасно ее бесило, и тут-то кроется самый главный момент всей этой истории. Каждый, кто пытается лишить маму чего-то, принадлежащего ей по праву, рано или поздно об этом пожалеет. В тот памятный день мама — уже изрядно выросшая, чего эта кайдановская дура не сообразила, и явно ощущая себя в свои пятнадцать с половиной лет совсем взрослой женщиной, с вполне округлившейся грудью, — решила, что, Бог свидетель, настала пора вскипятить молоко и съесть плойку. Другие дети были меньше ее, и, конечно, им полагалось в первую очередь все молоко, какое было в доме; но мама восстанавливала давно попираемую справедливость. Кайдановская баба застала ее за этим занятием и, не вникая, что и почему, набросилась на нее.
— Почему ты ударила свою мать? — спросил мой дед, прибежавший домой из синагоги.
— Она мне не мать, и я ее не ударила, — ответила мама. — Я только дала сдачи.
Вот так и случилось, что дочке раввина, которой еще и шестнадцати лет не стукнуло, разрешили — и, по сути дела, чуть ли не велели — одной уехать в Америку. Мама была тогда очень красива и стройна как тополь, она была словно пополам перерезана в талии, стянутой корсетом. Я видел ее фотографию, сейчас уже изрядно потускневшую, снимок был сделан на пароходе. Понять не могу, каким образом нищая девочка из захолустного Минска ухитрилась вырасти такой красавицей, но она и вправду выглядела как шикарная манекенщица, вот она, вся в турнюрах, с пышным бюстом и роскошными длинными волосами, в шляпке с широкими прямыми полями, стоит, опершись на поручни, около спасательного круга. Я скажу вот что: если какая-то дочка российского раввина могла отважиться на то, чтобы в одиночку отправиться в Америку, то это должна была быть моя мать. Когда недавно я советовался с ней, принять ли мне диковинное предложение работать в Белом доме, она решительно заявила:
— Почему нет? Скажи «да». Мир принадлежит тем, кто дерзает и рискует.
Погодите. Вот вам пример того, как человека может подвести память и как опасно доверять мемуарам — да и, возможно, любым историческим трудам. Вот я честно пытаюсь рассказать все, как было. И, однако же, немного подумав, я вспомнил, что ведь на самом деле я вовсе и не советовался с мамой, поступать ли мне на эту работу. А свой афоризм, который я сейчас процитировал, она изрекла совсем в другое время и по другому поводу. Дело было так. Несколько лет назад мы отдыхали на одном из островов Карибского моря. Мы остановились в отеле на вершине горы — все мы, то есть моя жена и дети, я сам и мама. Перед нашим отъездом моя сестра Ли, нарушив первую форму семейной секретности, раскрыла маме наши с Джен отпускные планы, и мама сразу же позвонила и пригласила себя поехать вместе с нами.
В тот день на этом острове с утра шел тропический ливень: с неба низвергались настоящие водопады, все отсырело и дымилось. Мы боялись, что ударит ураган. Однако, едва лишь наступило время, когда положено купаться, мама потребовала, чтобы я немедленно отвез ее на пляж. Она утверждала, что это «всего лишь дождик», который, того и гляди, кончится. Джен и дети говорили, что выходить из дому, когда разверзлись такие хляби небесные, — чистейшее безумие, но для меня было проще поехать, рискуя быть смытым в море, чем спорить с мамой. И вот мы отправились в нашем взятом напрокат «вольво»; пока мы по серпантину спускались с горы, машину окатывало каскадами мутной, грязной жижи, низвергавшейся с уступов; нас, в наших купальных костюмах, кидало из стороны в сторону, а дождь молотил по машине, как град. Но не успели мы подъехать к пляжу, как облака неожиданно умчались прочь и на очистившемся лазурном небе засияло карибское солнце. Мама немного поплескалась в прибое, набегавшем на совершенно пустой пляж, затем уселась в прибрежной пене и, нежась на солнце, стала, как ребенок, загребать руками и ногами.
— Мир принадлежит тем, кто дерзает и рискует, — сказала она.
Она была тогда уже слишком стара, толста и неуклюжа, чтобы по-настоящему плавать. Может быть, эти слова сами собой вспомнились мне много позднее — когда я получил по телефону предложение, приведшее к тому, что я теперь работаю здесь. Не знаю.
Как бы то ни было, не так-то просто было маме отправиться в Америку. Где взять деньги на дорогу? У раввинов в России обычно за душой медной полушки не было. Но вот каким образом мама раздобыла деньги на пароходный билет. Эта история кое-что говорит и о маме, и, как мне кажется, о русском еврействе, а более всего — о моем деде, который в этой хронике сыграет немаловажную роль под именем «Зейде». Мама же вскоре исчезнет из рассказа.
Ну, так вот. В нашем старом галуте было принято, что когда умирал раввин, преимущественное право занять его место получал его сын или зять. Здесь, в «а голдене медине», где община может заключить с раввином хороший контракт и положить ему весьма солидное жалованье, да еще дать в придачу дом, машину и кучу разных других дополнительных льгот, — здесь, если раввин умирает или уезжает в другое место, синагогальный совет, естественно, опрашивает претендентов на освободившуюся должность и выбирает из них, кого захочет. Это в чистом виде бизнес — точно такой же, как, например, когда нанимают тренера футбольной команды. Но не так делались дела в Минске. Женившись на маминой матери, мой дед тем самым закрепил за собой место в одной из лучших минских синагог — в Романовской синагоге. Раввином там был знаменитый реб Исроэл-Довид Мосейзон, и, поскольку ни один из его двух сыновей не был раввином, первым претендентом на его место был «Зейде». Реб Исроэл-Довид, мой прадед, в честь которого меня назвали, был человеком большой учености. Он написал книгу под названием «Мигдал Довид», что значит «Башня Давида»: это сверхсверхкомментарий к книге «Сифтей хахамим» («Уста мудрецов») — сверхкомментарию к комментарию Раши к Торе. Коль скоро «Башня Давида» была не ходким детективным романом, а ученым трактатом, реб Исроэл-Довид напечатал эту книгу за свой счет тиражом семьсот экземпляров. Один экземпляр мама привезла в Америку — в доказательство своего высокого происхождения. Этот экземпляр хранится у меня до сих пор. Страницы от времени пожелтели и стали ломкими, но книгу все еще можно читать. Мне доводилось ее просматривать, и, могу вас уверить, это очень, очень хорошая книга — для тех, кто сколько-нибудь разбирается в талмудических тонкостях.
Обычно реб Исроэл-Довид спал не больше четырех часов в сутки, а остальное время дня и ночи посвящал изучению Торы; однако когда он писал свой сверхсверхкомментарий, он сократил себе время сна до двух часов. Это уж он перестарался. Когда его дочь выходила замуж, он был так болен и слаб, что его ветром качало, он не мог сам ходить, и на свадьбу его принесли на носилках. То есть, если говорить цинично, у «Зейде» виды на будущее были самые блистательные. Однако поток ученых восхвалений, обрушившихся на «Башню Давида», придал ребу Исроэлу-Довиду новых сил, здоровье его полностью восстановилось, и «Зейде» не оставалось ничего иного, как вернуться в знаменитую Воложинскую иешиву, снова приступить там к занятиям и ждать. Жены молодых раввинов в России знали, что им придется смиряться с таким благочестивым отреченьем их мужей от суеты мирской — иногда на многие годы, в ожидании того, когда ангел смерти обеспечит им постоянную работу.
О маминой матери я знаю только одно — каким образом случилось, что она вышла замуж за «Зейде». Когда «Зейде» был еще молодым ешиботником без гроша за душой, он проезжал как-то через Минск и остановился на субботу в доме реб Исроэла-Довида. Моя бабка влюбилась в него и не преминула сообщить ему об этом. Поведение, не подобающее, конечно, раввинской дочке, но так уж случилось. «Зейде» был, разумеется, совсем-совсем не пара для дочери «Башни Давида», как все называли реб Исроэла-Довида. Хоть и блестящий знаток Талмуда, «Зейде» был гол как сокол — сын простого, набожного деревенского трактирщика, у которого ветер свистел в кармане. Однако же, видно, у моей бабки было в характере что-то такое, что потом было и у мамы; ну, долго рассказывать, что да как, но кончилось тем, что к «Башне Давида» пришла смущенная сваха с брачным предложением от «Зейде». Был такой скандал, что небу стало жарко. Реб Исроэл-Довид, само собой, отказал «Зейде», обосновав свой отказ более чем возвышенным аргументом: дескать, «Зейде» не обладает достаточно глубокими познаниями в еврейском правоведческом кодексе — книге «Шулхан арух».