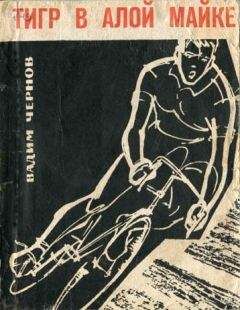Известно: у «влюбленных» мысли совпадают. Ира писала:
«Милая девушка. Она набрала мой номер, и ее брат, он сильно заикается, пригласил меня прийти. От моего визита у нее сделалось постным лицо. Теперь Рая оставляет твои письма в почтовом ящике. Избегает встречи со мной. Она, по–моему, влюблена в тебя. Прежде мне не приходилось общаться с глухонемыми. Дверь была предусмотрительно отперта. Девушка листала Карлейля. Закладкой служил твой снимок! Люди вообще не наблюдательны и, что глупо, высокомерны с теми, кого считают ущербными. Мне всегда казалось: немые читают адаптированные книги наподобие книг для слепых. …Твоя соседка вполне заслуживает счастья. И если бы не ее брат, честное слово, я не представляю, почему бы тебе и ей…» За пассажем Ирины я угадал ревнивое неудовольствие от присутствия чужой женщины в моей библиотеке.
В то же самое время я отвечал Родиной:
«Ребенку» исполнилось двадцать пять. В двадцать Рая вышла замуж. Но со смертью ее матери муж, хитренький сопляк, разумно выбрал между своим покоем и хлопотами о юродивом шурине… Рая закончила филфак университета и перечитала всю мою библиотеку. Отец, страстный букинист, как видишь, кое–чем со мной поделился».
На черном стекле вагонного окна неосязаемый лик Иры. Восемь часовых поясов разницы с Москвой. Могучий Амур — река рек. И только отсвет на фермах моста через бездну смоляной воды, уносящей блеск звезд и само время, обозначает пространство.
«Ты не любишь людей, но принимаешь их такими, какие они есть. Тебя раздражает Сережа. Ты терпишь меня. Я это вижу и не могу уйти! Из ревности! Из желания всех несправедливо отвергнутых доказать, что меня есть за что любить!
Все хорошие люди, — во всяком случае, мои знакомые, — люди с исковерканными, но не ожесточенными душами. В детстве ты не умел мстить. Таким и остался!»
Ира не сетовала на изъяны быта. Ее письма оживлял своеобразный юмор: «В 1790‑е «Письма русского путешественника», в 1891‑м «Остров Сахалин», а в 1990‑е ты!» Она переписала в письмах, — чтобы я запомнил! — свои любимые блюда: жареная картошка с грибами (я как–то обмолвился, что с зауральского детства предпочитаю эту пищу), цвет — зеленый, цветы — декоративные подсолнухи. Все это якобы для какого–то гипотетического конкурса, где ею придуманная комиссия выведывает, хорошо ли мы знаем друг друга.
Она решила, что мои любимые цвета голубой и желтый. «У тебя голубая чашка, голубое постельное белье, голубая гостиная! У изголовья светильник в форме желтого месяца». По словарю символов она расшифровала значения цвета и приписала мне мнимые качества — «великодушие и слепое стремление к власти».
А вот, похожие на ее палитру, мои цветовые заметки: «Вдруг изумрудные сопки расступаются, и под золотисто–желтым небом голубая чаша залива — Находка! Для моряка тихий залив в стороне от штормов Японского моря, действительно — находка».
«По карте я сверила адреса твоих писем. Железная дорога нарисована красным. Красное дерево легких до Урала, аорта мимо Казахстана, Китая, Монголии. На севере, заштрихованном сплошной зеленью, ни одной красной жилки железных путей. Чукотка! Курилы! Чудовищно! Где ты, Саша?»
«От Калининграда до Иркутска — одна страна, от Владика до Хабаровска — другая. И это все Россия!»
Лишь раз я не сдержался и обиженно написал: «Нет конца стонам русских мыслителей о ветхом шушуне, заунывном колокольчике и кибитке с птицей тройкой на пути России по дорогам всемирной истории! Здесь же, на краю русского света, русичам чхать, где находится бывшее княжество Великого Штефана. Россия бросила русских в колониях! Огромная Иудея, где вечно правит злой божок, и для него люди — шлак!»
О новых окаянных днях по Бунину, лихорадивших страну, Ира отзывалась презрительными словами Кьеркегора: «Масса обезьян создает впечатление могучей силы!» Подобно Достоевскому, обзывавшему «полячков», она дразнила аборигенов разнообразными «ашками». «Рельсовые» демонстрации против закона о языке, когда русские, не желая учить местный язык, преграждали путь поездам; мамаши аборигенов, сажавшие своих детей под гусеницы русских танков на ноябрьском параде; болтовня об измене господаря Кантемира молдавскому народу, службой русскому царю; преувеличенное восхваление национального поэта Эминовича (кстати, не молдаванина, а серба); обсуждение пакта Риббентропа — Молотова и прочей чепухи, коей горделивые зайцы, представители национальных меньшинств, тешились на могиле льва, читай — Российской империи, — раздражали Иру. Позже нашел ее набросок на полях книги: «не могу читать русские художественные журналы. В них эстетствуют сукины дети, хвалят друг дружку и ни слова о том, что ждет русских с окраин, после развала СССР. Ныне не золотой или серебряный, а ржавый век русской литературы…»
«В чем смысл, Саша, если все будет убито: и наше с тобой желание любить, и страх признаться в любви друг другу, чтобы другой не сделал больно, и отчаяние маленьких людей сохранить свой дом? В чем смысл, если глупость непобедима? В древних Сиракузах тупой солдат убил философа Архимеда. В Петрограде такой же тупой солдат — поэта Гумилева! Кого–то убьют сейчас! Просто так! А ведь смертная тоска одинакова для бездомной собаки и для властелина! Почему надо за что–то бороться и гадить другим, почему нельзя просто жить?
Ты искренний в своих письмах. Но когда мы встретимся, ты спрячешься за книжных героев, отгородишься частоколом цитат! В твоих словах не останется ничего живого. Напоказ лишь арабески русской культуры, чтобы никого не пустить в свою душу.
Обывателю не нужно ни прошлое, ни будущее! Он живет сегодняшним днем. Боится одиночества и людей! Но хочет, чтобы его любили. А его не любят, за то же, за что не любит он — за страх любить другого!
Помнишь, в рассказе Чехова извозчик в смертной тоске жалуется коню об умершем сыне. Неужели без страдания человек не поймет другого? Шопенгауэровская аскеза!
В детстве я тайно любила Илью Ильича с Гороховой. И не понимала, почему критика Дружинина, как и я, любившего «чистых душою», считали не правым. Папа в халате и в мохнатых тапочках подтрунивал над горьковским буревестником. «Представь, милая, как эти птицы гадят, когда слетаются в стаю!» После обеда в выходные мы спали, а потом бродили по дому одуревшие и изнеженные. Но в сочинениях на тему «Как я провел выходные» я врала, что сажала деревья или чистила снег у подъезда.
Может, счастье Обломова — это то, чего нас всех лишили?
Увидев тебя в халате на твоем островке, я сразу вспомнила детство и отца: ты жил так, как тебе нравится. В тот миг я захотела укрыться от идиотизма перемен в стране, укрыться с тобой на твоем острове за оградой из плюща вокруг твоего дома. Ты это понял и испугался. За меня и Сережу! Ты тоскуешь об умершем сыне, уверен, что принесешь нам несчастье, и специально отталкиваешь нас подчеркнутым равнодушием! Ведь, так?»
Я увлекся вымышленной героиней своих эпистол и приоткрыл ей смотровой глазок в свою душу. «Ты хочешь узнать меня? Изволь. Письма — черновик души. Одни находят смысл жизни в том, что растят детей, забыв историю Лира и Горио. Другие творят, словно холсты действительно не тлеют, а рукописи не горят. Третьи хотят власти. Есть и четвертые, и пятые, и сотые. Но все бегут от сознания неизбежного исхода.
Я не верю в Бога и боюсь смерти! И уверен: даже тот, кто верит, все равно боится, ибо не знает, что там? Лишь для ребенка нет ни прошлого, ни будущего, мир для него — радость! Старик с завистью смотрит на молодость — это проекция ангельской души: то, что ждет всех — от счастья, к ужасу! Бог создал жизнь! А дьявол — смерть! И все мы идем по одному пути. Поэтому любим своих детей. Находим в них смысл и очищение…
А за что спрятаться мне? Я не напиваюсь в хлам. Давно не разбираю, где любовь, где похоть. Семьи у меня нет, ибо своих детей у меня не будет, а с чужими, полажу ли? Даже все свои мысли я прочел у других! Мое воображение наполняют образы и аллюзии русской культуры среднеобразованного маргинала, воспитанного в культурной среде национальных окраин советской империи.
Остается дорога — древнее средство от тоски. Вечный поиск райских земель Беловодья, города Игната, реки Дарьи, новых островов, ореховой земли, скита Вечный — Град-На — Дальней-Реке. (Видишь, опять прячусь за никому не нужную эрудицию, чтобы не показаться сентиментальным!) Верно, Бог на дороге живет и праведную землю можно нечаянно встретить. Я исколесил страну километр за километром, тысяча за тысячей! Для меня не расстояния отделяют станции и города, а время поезда в пути. Мир для меня умещается в кубических сантиметрах моего мозга. Голубая глубина неба отражается в лазури Амударьи среди ржавой глины берегов. Коршун скользит высоко над волжской степью к соломенному горизонту, выслеживает полевых мышей. И чем красочнее сон, тем ужаснее пробуждение. Россия, вечно убогая и вечно нищая, роковая и ледяная страна, как размазанная по свадебному столу постная каша. Я говорю с русскими на одном языке, ищу понимания у таких же эгоистов, как я. Но за толстым звуконепроницаемым стеклом шевелятся губы, а слов не разобрать. Помимо спетого Высоцким в его известной песне, я не люблю чисто русское равнодушие к самим себе; русское пренебрежение к божьему рабу; ненавижу, что с детства меня заставляют любить Родину, которая никогда не любила нас, а лишь унижала, убивала и гнала. Не верю попам, не попы же предстанут пред Ним в мой час! Говорят, любовь к Родине рождает героев, любовь к истине рождает мудрецов. А я бегу за моей неразделенной любовью к мачехе, к злой Родине, России, проклятой кем–то железной судьбой. Бегу, пока не выдохнусь.

![Роберт Хайнлайн - Чужак в чужой стране [= Чужой в чужой земле, Пришелец в земле чужой, Чужак в стране чужой, Чужак в чужом краю, Чужой в стране чужих]](https://cdn.my-library.info/books/130171/130171.jpg)