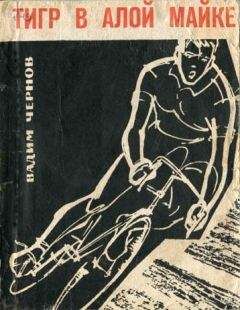Смею ли я взять тебя в свой кошмар? Ты бросишь меня, узнав, кто я настоящий.
Хватит. Чужая откровенность пугает людей. Они не знают, что с ней делать.
Лучше, расскажу историю.
Отметили с Дедом его день рождения. Он рассказал мне байку.
Мол, астрономическая наука утверждает, что Солнце когда–нибудь расширится, и поглотит Землю. Но перед тем на планете останется последний человек.
Вот сел он, немощный и спокойный, перед вечностью, ибо все познано человечеством, все пережито, что было ему на роду написано.
Услышал Вседержитель: струится во Вселенной слабый родничок человеческой мысли, тихо плещет в зияющей тишине небытия. Решил Бог явить себя последнему человеку. Спустился на остывающую Землю во всей славе своей.
Взглянул человек на Бога. И от взгляда этого нахмурился Всевышний. Увидел Бог созданное человеком: беспримерные живописные полотна, книги небывалых озарений, бездны страдания, моря крови, мучения, ненависть, любовь и всепрощение за все, что пережили и узнали люди. Увидел Бог всю память веков!
К чему столько страданий, если все конечно? Кому достанется все познанное нами, если я последний? — не разомкнув уст, спросил старик.
Промолчал Всевышний.
За что я последний?
Промолчал Всевышний
Ты равен мне, человек! Проси, чего хочешь! — наконец, молвил Бог.
Лиши меня памяти!
И исполнил Всевышний его последнее желание.
Забавная байка. Слушая деда, я подумал: если вечность неповторима, встретимся ли мы с тобой в другой жизни? Хотелось бы!
Дед утверждает, все мои мысли от «холостяцкого чина».
Поздней осенью мы больше месяца крутились на местных перевозках под Читой (город с обезьяньей кличкой). Ночью поезд замер меж двойным строем черных елок. Машинист железным дрыном долго колотил в дверь. Затем в ватниках, кирзовых сапогах и в полотенцах, намотанных на рот, чтобы не обжигал мороз, втроем мы проваливались в сугробы и ремонтировали тормоза вагона. Бриллиантовый Орион целился из своего лука на запад и подрагивал от озноба. Он дрожал в протопленном вагоне следующим вечером, и смертельная стужа созвездия сотрясала мое тело. Я смертельно простыл.
Помню, из багрового забытья выплывал силуэт Иры. Человек в черном капюшоне, — давние фантазии Родиной на тему Анны Карениной, спровоцированные Гришей в моем саду, — бережно протягивал мне ложечку с микстурой и что–то бормотал.
Когда я очнулся, за окном у переезда пережидала бабка в шушуне. Пурга задернула степь серо–белым тюлем.
— Фу, ты, живой! — от двери купе хрипло пробасил Дед. Под его татарского разреза глазами темнели пятна бессонницы, а обезьяньи морщины у губ заметал иней седой щетины. — Неделю горел. Думал, амбец тебе! И поезд прет без остановки! Давай чайку!
— А где она?
— Ждет дома!
— Дед, она была тут? Ира?
Напарник растерянно помешал кипяток в кружке и проворчал: — Нет.
Жар и слабость еще неделю забавлялись мной. И в снежном хрусте шагов за окном, в металлическом стуке инструментов Деда в дизельной мне мерещилось: это идет Родина, карабкается по лестнице на секцию.
Позже Дед рассказал: перед тем как выгрузить мой полутруп на узловой станции в железнодорожную больницу, напарник дал телеграмму домой, ибо я постоянно звал, какую–то Иру. Но оставить меня на чужбине напарник не рискнул.
Вокзал. Такси. Пощелкивает счетчик. Возвращаюсь домой.
Обычно Григорий возбужденно и радостно о чем–то заикался у порога. Рая сторонилась, чтобы предъявить взору из прихожей прибранные комнаты, и ее карие глаза лучились…
Теперь меня никто не встречал! Девушка ревновала меня к Ире.
Уют протопленного дома, разогретый Раей обед и перевязь моих писем — распечатанных! Рядом неровный веер конвертов, надписанных незнакомым почерком. Я догадался: Ира не могла отправлять мне корреспонденции в поезд и оставляла их у меня дома. Криво ухмыляясь, словно кавалер, выбранный на белый танец, я принялся читать первый ответ. Затем, в халате, тапках, на привычном месте в кресле у окна — другой.
Было далеко за полдень. Рыжее солнце запуталось в черной паутине голых ветвей и сползало на гребень соседской крыши. Долгая зимняя ночь неторопливо натаскивала на белесое небо фиолетово–непроницаемую драпировку. Отложив последнее прочитанное письмо, растроганный и желая немедленно увидеть Родину, я отправился к Ирине.
Двухэтажную постройку пятидесятых с полуколоннами охраняла побеленная каменная гребчиха на постаменте с веслом и без головы.
Родина слепо щурилась на освещенный из прихожей силуэт в овечьем полушубке: вспоминала, кто это? Я был разочарован — ждал, что женщина упадет мне на шею. Наконец, сказал: — Привет!
— А! — проговорила она и неуверенно добавила: — Заходи! — Тень неудовольствия скользнула из ее серых глаз на дрогнувшие вниз уголки губ. — У нас гость! — предупредила Родина, так, словно, я выходил покурить.
Из зубастой пасти краба, сцапавшего волосы на ее макушке, до воротника халата неряшливо повисла прядь волос, как внутренности нерасторопной жертвы.
Ее сын выглянул в коридор, вопросительно посмотрел на дядю — мальчик держал какой–то кулинарный огрызок, я заискивающе улыбнулся: мол, помнишь меня? — и снова исчез. Я положил целлофановый пакет возле трюмо — несколько плиток шоколада, игрушечный полицейский набор. Фантазии о семейной идиллии, разбуженные письмами Иры, захлебывались в тихом бешенстве от безразличия Родиных ко мне.
В комнате ее муж в спортивном костюме и босой, ухмыляясь, ловко уворачивался от захватов сына за шею. Отца я узнал по уменьшенной копии: мосластый и длинный, с русыми прямыми волосами, сползавшими на красивые глаза грустного арлекина.
Мальчик валился отцу на спину и бочком шлепался на подушку.
Я думал, Сереже будет мучительно неловко. Но, очевидно, — подразумеваю дилемму Сережи Каренина между отцом и Вронским, и продолжу толстовские аллюзии, — мальчик давно решил, кто друг, а кто враг. Меня задело «предательство» ребенка: мальчик, помнится, так же резвился и со мной!
Парень, не прерывая игры, кивнул. Родина познакомила нас и удалилась, предоставив самим выпутываться из крепких объятий взаимной неприязни. Не дурак же он, смекнул, что приехал хахаль! А значит, он, хоть формально, — обманутый муж.
Из коридора донесся голос Иры: — Леша, прекращайте возню! Это плохо кончится!
— Ребенку нужно двигаться!
— Тогда уйдите в другую комнату! — и ушла сама.
Ее мать с закруткой огурцов настороженно кивнула от двери балкона. Воистину это был генеалогический парад двойников! Если бы на сутулое чудовище в замызганном фартуке, с жидкими, едва заметными бровями и мешками под блеклыми глазами надеть красно–полосатый махровый халат ее дочери, то получилась бы та самая девочка из моего детства, но лет шестидесяти и пегая.
Мне б уйти. А я не мог! Меня держали ее писем. Где–то в потайной комнате, как у Чехова, томились две перелетные птицы, самец и самка, которых поймали и заставили жить в отдельных клетках.
Меня душила ревность: припухшее после сна, небритое мурло хозяина, разобранная постель — две подушки у изголовья!
Я осмотрелся. Теснота, скученность и захламленность! Советская роскошь — мебельная стенка с витражами выставочных томов под пушистой пылью по соседству с жеманной хрустальной посудой. Несуразно огромные к габаритам квартиры цветы в углу.
Тут я насторожился. Цветы в комнате диссонировали с цветами в письмах Иры. Монстровидная монстера с рваными лопастями листьев и дрыном посреди горшка. Ветвистый кодиеум с розоватой макушкой. Кусты: ожившая из мифа калатея, — ассоциации с Галатеей, — и музыкальная диффенбахия, — Оффенбах. В подвесное кашпо набились плоские отростки, — словно хвосты доисторических ящериц, — нефролеписа, и гирлянды эсхинантуса с рубинами нераспустившихся цветов. Где же в зеленом однообразии комнаты декоративные подсолнухи из писем, легкость цвета, любовь…
Я присел на край стула, остерегаясь шерсти затаившегося где–то спаниеля, и глупо улыбался на показное благополучие Родиных: женщины на кухне накрывали на стол. Думаю: захлопнись за мной дверь, и злобное отчуждение взрослых затопило бы семью, как формалин наполняет сосуд, чтобы сохранить мертвую форму.
Над креслом в позолоченной раме висел овальный фотографический портрет Ирины. Непроницаемые глаза насмешливо и нагло смотрели на меня. Поглядев на портрет с минуту, я вздрогнул так, что едва не затряслись губы.
— Сережа, а где собачка? — напомнил я о себе.
— Умерла, — равнодушно, — очевидно это случилось давно, — сказал мальчик, продолжая игру.
— Смоли умерла от чумки, — подтвердила из коридора Ира.
Странно, почему же они не написали о смерти четвероногого друга?

![Роберт Хайнлайн - Чужак в чужой стране [= Чужой в чужой земле, Пришелец в земле чужой, Чужак в стране чужой, Чужак в чужом краю, Чужой в стране чужих]](https://cdn.my-library.info/books/130171/130171.jpg)