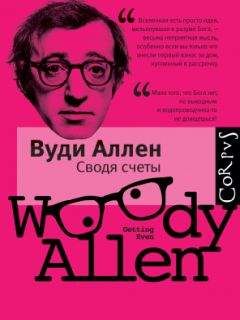На Бема, в отличие от страуса, никто не записывался. К нему приезжали просто так — побеседовать с великим писателем, с третьим, так сказать, местом, набраться ума, мудрости, что-то понять и даже переосмыслить. Правда, первым вопросом всегда было:
— Кстати, а как бы попробовать страуса?
Все знали, что у великого Бема в том самом ресторане был блат — повар, колдовавший над волшебным блюдом, приходился ему родным братом и был гордостью всей семьи, в то время, как Бем, несмотря на свое третье место в Европе, в своей собственной семье шел на последнем. Это был выродок… Все остальные были люди как люди — банкир, ювелир, владелец магазина готового платья.
А Бем — пил, писал, любил…
Ему говорили: кончай с этим, не губи жизнь, есть прекрасное место в «Трейд Деволопмент Бэнк», ты знаешь семь языков, ты бы мог стать замечательным секретарем-машинисткой или управляющим рестораном у брата — он тебя обучит в три месяца, ты способный, ты как-никак из нашей семьи… Но Бем слушал — и продолжал пить, писать, любить. И обожал Медведя. Еще тогда, когда Виль жил в Ленинграде, Бем ставил его сразу после Толстого и Чехова. Для него в русской литературе писатели располагались следующим образом: Толстой, Чехов и сразу же за ними — Медведь, Виль Васильевич. Это когда он был трезвым. После пятой рюмки происходили некоторые перемещения: Чехов слегка отодвигался и уступал место Медведю. Иногда Бем выпивал семь рюмок. Не закусывая. Список сотрясало — Виль перебирался на первое место, Толстой оказывался на втором, а на третье почему-то выплывал Шекспир.
И как-то так получалось, что Медведь — не только первый писатель земли русской, но и всего мира. По Бему…
Гюнтеру удалось пожать руку Виля только на пятый день. За это время Виль уже проел доллары, фотоаппарат с самоваром и партитуру «Пиковой дамы» Чайковского. Оставалась вышитая скатерть. Бем видел, как торговались с великим писателем, который просил пятерку, объяснял, что скатерть — ручной работы, а люди в костюмах «от Кардена», пахнущие «Ланвеном» давали не больше трех. И Виль уже махнул рукой и один пахнущий полез было в карман, но Бем спокойно отодвинул его и протянул Вилю сотню.
— Я хотел пятерку, — сказал Виль, — но могу отдать и за…
— Даю сотню, — сказал Бем. — Держи — и гони скатерть! Я, старый гуляка и повеса, все скатерти свои залил вином, и жрать мне не на чем последние полсотни лет…
Виль удивленно взглянул на Бема, отбросил голову и продолжил:
— …И поэтому я ем на залитом чернилами дубовом столе страуса в собственном яйце, запивая его бургундским, присланным старым моим другом Филиппом Ротшильдом…
— Не надо Бема, — остановил его Бем, — будем читать Медведя, великого продавца скатертей на берегах лингвистической реки.
И он торжественно, с выражением, прочитал главу из «Кретинов». Виль скинул пиджак и начал залихватски читать монолог из драмы Бема «Визит юного хама».
Бем перебил его афоризмом из последнего романа Виля. Медведь запел — Бем писал также и песни. Тогда Бем натянул на себя скатерть, повернулся к Востоку и, воздев руки к небу, начал читать монолог старого еврея, мечтающего умереть на Земле Обетованной — из непоставленной трагедии Виля «Абрам»…
Раздались аплодисменты, они вдруг очнулись и увидели, что окружены огромной толпой, а у их ног валяются монеты и даже бумажные купюры.
Виль покраснел.
— Товарищи, — обратился он к толпе, — заберите, пожалуйста, деньги. Каждый свои.
— Ни в коем случае! — запретил Бем. — Это единственный случай, когда в нашем городе оплачивают труд писателя.
Он аккуратно собрал гонорар.
— Пошли пить!..
Они отправились в тот самый ресторан. На страуса не хватало, только на его яйцо, и Бем вызвал брата.
— Запиши на мой счет и принеси страуса.
— Уже некуда записывать, — сказал брат.
— Хорошо, ты не веришь мне — вот великий русский писатель. Открой ему счет и запиши на него. Пиши — Виль Медведь, великий писатель, два страуса, два яйца, две порции водки и две сигары от Давидова…
Брат принес только водку.
— Только из уважения к Горбачеву, — бросил он.
— Вот такие здесь братья, — сказал Бем, — куда ты переехал?
— Как там у вас движется перестройка? — поинтересовался брат, который почему-то никуда не уходил.
Виль открыл рот, и Бем почувствовал, — ни страуса, ни яйца им не видать!
— Ты хочешь страуса? — произнес он.
И Виль все понял. Они были родственными душами. Он сказал, что перестройка — это что-то особенное, удивительное, ни на что не похожее…
Появился страус, потом второй. Поплыл олень, тетерева, «Вдова Клико»…
— Перехвалил, — сказал Бем, — больше некуда. — Он похлопал себя по животу.
— А, в общем-то, вся эта гласность — херня, — задумчиво произнес Виль, — плохая комедия.
Со стола мигом уплыли остатки страуса, улетели тетерева, растаял в дыму «Давидов».
— Слава Богу. А то я ничего оставлять не могу. В тебе сколько килограмм?
— Восемьдесят два, — сказал Виль, — перед отъездом взвешивался.
— А во мне сто четыре. До обеда было… — он вздохнул. — Ну, ты видел, какие тут живут мудаки? Куда ты приехал? Они верят в две вещи — в деньги и в перестройку. Кретины считают, что если там не будет перестройки — тут не будет денег. Отнимут!.. Пойдем, я тут недалеко… Они потащились к Бему.
— У тебя денег нет. У меня тоже. Но у меня есть дом. И собака. Будешь жить у меня.
Бем жил с собакой, огромной немецкой овчаркой по кличке «Литературовед».
— Во-первых, это не кличка, а имя, — объяснил Бем, — клички, если угодно, у местной интеллигенции. А, во-вторых — она таки литературовед. А почему — это тема особого романа, который надо будет когда-нибудь написать. Ее судьба — судьба талантливого человека… Раньше ее звали «Алмаз». Эти идиоты на границе не могли ничего лучше придумать. Да, раньше она работала на границе. И, надо сказать, великолепно — она задерживала всех, но при одном условии — если те не были писателями, композиторами, художниками… Если же границу собирался перейти какой-нибудь поэт, музыкант, певец — «Алмаз» это ощущал каким-то шестым чувством и уводил пограничника в противоположную сторону. Вскоре слух об удивительной собаке распространился по всему миру — и к границе потянулись турецкие писатели, чилийские художники, чешские драматурги, кубинский скульптор… Все, что мы имеем стоящего в нашем городе — мы имеем благодаря «Литературоведу». Если бы не он — у нас бы не было ни кинематографии, ни театра, ни знаменитого балета…
О проделках «Алмаза» стало известно в столице. Министры были крайне возмущены — пес похерил столь тщательно разработанную программу приема беженцев. На специальном заседании правительства абсолютным большинством голосов было решено перевести «Алмаза» из пограничных войск в полицию. То есть, он пошел на понижение… «Алмаз» безуспешно пытался перейти границу, кусался, брыкался — но вы понимаете — постановление Совета Министров, оно не обсуждается — и он оказался в полиции нашего города. С таким лицом!..
У нас «Алмаз» повел себя несколько странно, но, я думаю, это была точно продуманная тактика. Вместо убийц, насильников, воров он выискивал поэтов, художников, скульпторов. Однажды, когда вся полиция носилась, сломя голову, в поисках банды, ограбившей наш крупнейший банк — «Алмаз» притащил дряхлого девяностолетнего пианиста… Ты хочешь знать, как мы познакомились — он приволок меня. Я пил пиво у стойки, когда «Алмаз» впился зубами в мои брюки и потащил к двум полицейским. Они как раз в это время искали насильника — что-то там тринадцать изнасилованных… Я имел больше женщин, — но у меня и мысли никогда не было насиловать их, я их брал другим путем — я читал мои романы… Короче, меня отпустили. Полицейские. Но не пес. Он жалобно скулил и продолжал держать меня за штанину. Я взглянул в его глаза и сразу понял, что этот пес любит литературу. Они мне его отдали, причем с удовольствием — им надоела его провокаторская деятельность… Короче, «Алмаз» добился своего — и я привел его домой.
В тот вечер я читал одной даме из высшего света свой роман. И она засыпала. Она нагло зевала и звала в постель. Она явно не хотела дать мне закончить! Скажи, какой писатель идет в постель, не закончив?.. Короче, она зевала, она томно прикрывала глаза, а пес выл, когда было смешно. Плакал, когда было трагично. А в некоторых местах даже аплодировал, ты не поверишь — но он это делал, передними лапами. И я открыл его истинное призвание — это критик, Виль…
«Литературовед» закивал головой.
— Если хочешь — можешь проверить сам. Доставай рукопись и читай!
— У меня по-русски, — сказал Виль.
— Какое это имеет значение для «настоящего критика»!
Виль вытащил из бокового кармана пиджака потрепанные листки и начал читать. Собака забралась в кресло.