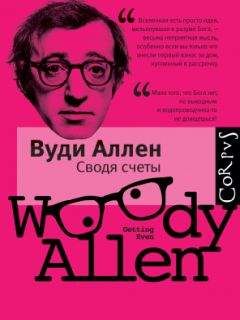Виль вытащил из бокового кармана пиджака потрепанные листки и начал читать. Собака забралась в кресло.
Она вздыхала, вздрагивала, навостряла уши, срывалась с кресла и бегала вокруг Виля, виляя хвостом, и вновь замирала. Она слушала, как самая лучшая аудитория в Ленинграде, где-нибудь в «Доме ученых» или в «Доме архитекторов» на его последнем, прощальном вечере.
Виль кончил.
— Ну, — сказал Бем, — убедился? Я ему иногда читаю Чехова — реакция потрясающая, он еще и воет. Поэтому ты у меня третий. Извини…
— А Толстой?
— Не произноси этого имени. Собака плачет.
Виль повернулся в сторону кресла — по морде «Литературоведа» текла крупная слеза…
Вилю было как-то тепло в этом доме, среди разбросанных листов, окурков, немытых стаканов, лающего «Литературоведа», у этого огромного, лохматого человека с большим животом и вьющейся шевелюрой. Все эти дни ему было так одиноко в этом городе, все были чужими, и свои русские, и свои евреи, а вот этот человек непонятной национальности, купивший у него скатерть и знающий наизусть его монологи — был свой.
— Ты свой, — сказал Виль.
— Потому что я — выродок. Теперь нас будет двое… Давай выпьем за выродков?..
Из кармана куртки он достал недопитую бутылку водки.
— Стащил, пока брат убирал.
И они подняли бокалы. ИБем обнял Виля, как брата.
— Ну, что будешь делать?
— Писать…
— Сытая жизнь делает все пресным, округлым и чересчур нормальным, — сказал Бем. — А чтобы писать — надо быть ненормальным! И читатель должен быть тоже немного того… Поэтому тут нет ни читателей, ни писателей. Тут забыли, что это такое. Когда представляешься — «писатель» — люди бросаются к Толковому словарю. И уже не в каждом есть это слово. Поэтому я представляюсь — «Брат страуса с яйцами»… Что ты умеешь, что ты можешь?
— Умею только писать. Знаю только русский язык.
— Как раз для восемнадцатого места в нашей семье, — заметил Бем, — сразу же после меня…
* * *
Граната Глечика посадили за пенку.
В те далекие времена в России все любили пенку — говорят, в революцию любят пенку — и Глечик сожрал пенку самого товарища Гулыги — яркого революционера местного масштаба — и сел по статье «Хищение социалистической собственности в особо крупных размерах» — пенка, видимо, была немалой.
После пяти лет небольшого архангельского лагеря он перестал доводить молоко до кипения. А если пеночка случайно получалась — оставлял товарищу:
— Пеночки не хотите?..
Глечик появлялся в гостиной всегда в сопровождении почетного эскорта. Это были две тонкие блондинки, общий возраст которых не превышал возраста Глечика в тот год, когда он съел пенку.
— Оленя ранило стрелой! — доносилось уже из дверей.
— Аидише Шикер, — констатировал Харт и все второпях допивали водку.
У Харта была своя теория экстремальных иудейских вариантов: Если еврей дурак — это уже Иванушка, если мудрец — Соломон, если шикер — то Глечик.
Он пил всюду — в жизни, на сцене, под…
Проверить было трудно, но утверждали, что Глечик пил с бармицвы, и съел пенку ввиду отсутствия закуски.
Глечик научно объснял это:
— Вы не представляете, что будет, если я просохну, — угрожал он, вынимая рюмку из рук Харта, — я умру!
За его жизнь никто не волновался — он был заспиртован.
— В этой стране, — сообщал он, — я могу жить только керным, — он вырывал рюмку из рук Качинского, — только под шафе.
Качинский не выпускал.
— Или вы хотите, чтоб я сказал все, что думаю?! — угрожал он.
Качинский не хотел и выпускал бокал с живой водой.
Ни один из завсегдатаев Мавританской не хотел, чтобы он сказал, что думает — гостиную бы сразу закрыли.
Много лет назад, в жаркое лето, когда Глечик однажды просох, он сказал все, что думает…
Его увидели лет десять спустя, сгорбившимся, худым, на пороге Мавританской:
— Оленя ранило стрелой, — печально произнес он.
За десять лет олень постарел лет на двадцать.
— Вот к чему приводит трезвость, — сказал он.
Потом, с годами, к нему вновь вернулась молодость, веселье и постоянная радость бытия.
Ему откровенно завидовали — ни у кого из завсегдатаев не было такого длинноногого эскорта. Его всегда сопровождали красавицы. Их светлые волосы бросали на Глечика таинственный свет.
У стола Глечик целовался с эскортом и отпускал его, долго провожая взглядом.
— Три часа занимались актерским мастерством, — пояснял Глечик, выливая себе все, что осталось в графине, — талантливая молодежь!..
Иногда он сообщал, что с талантливой молодежью занимался сценическим движением, иногда — приемами комического — взгляд его был лукав — что он хотел сказать?
Частенько на его заросшей щеке можно было видеть помаду. Из кармана, вместо платка, он периодически доставал бюстгальтер — приемы комического были налицо…
Кроме эскорта у Граната Глечика было еще двадцать девять писем Хайдебурова. Никто не знал, кто такой Хайдебуров, но Глечик в тяжелые минуты жизни всегда говорил:
— Ерунда! У меня есть 29 писем Хайдебурова. Их любой музей купит. И вы знаете, за сколько?!..
Цифр он не называл и не говорил, кто такой Хайдебуров.
— С такими письмами не пропадешь! — только подмигивал он.
Глечик был сух, одновременно с двумя сигаретами — в зубах и пальцах, — и невероятно эмоционален — речь его сопровождалась обильной слюной.
Когда он выступал со сцены — три первых ряда не занимали. Истории его были увлекательны. По его словам, выходило, что он сыграл не последнюю роль в постановке «Броненосца Потемкина» Эйзенштейна и в написании «Двенадцати стульев» Ильфа и Петрова. Он так загадочно улыбался, что можно было подумать, что все это — вообще его рук дело.
— Эйзенштейн был в кризисе, — драматически говорил он, — я подсказал тему, подобрал актеров, составил режиссерский сценарий. Ему ничего не оставалось, как снять и пожинать славу.
— А Ильф и Петров? — спрашивали завсегдатаи.
— Они использовали мой юношеский роман, — гордо говорил он, — но я их извиняю — моего таланта хватит на всех!
Кого он имел ввиду — Пастернака? Уланову?
Весь свой талант, юмор, остроумие Гранат оставлял в Мавританской. Там проходили его звездные часы, там он метал эпиграммы, репризы, истории, они заставляли трястись от хохота.
Когда он покидал гостиную — его покидал талант.
Он писал, играл, ставил, преподавал, но лучше бы он все свое время проводил в Мавританской…
Лекции его напоминали скетчи, скетчи — лекции, а игра студентов — плохую пародию.
Когда они, веселенькие, крикливые, выскакивали на сцену, старый Харт, занимавший обычно два места в зале, ввиду своей комплекции, давился от хохота, вытирал слезы огромным платком и сквозь кашель выдавливал:
— Тети Песины питомцы!..
Глечек подозрительно смотрел в зал…
— Ленинградский наш «Зенит»
Был когда-то знаменит, — тянули девичьи голоса, до противности напоминающие вой голодной гиены.
Харт с нескрываемым ужасом смотрел на этот пронзительный хор.
— В городе не хватает проституток, — бормотал он, — а эти — поют!
— А теперь игра в «Зените»
Не игра, а извините… — вступала мужская группа нагловатых откормленных козлов.
— Зачем он заставляет петь фарцовщиков?! — вздыхал Харт. — Кто будет обслуживать иностранцев?
Вздохи Харта не доносились до сцены, но после окончания студии Глечика девушки шли в проституцию, юноши — в фарц. Они были лучшие в своем деле. Школа Глечика помогала им в нелегком труде.
Когда клиенты, — какой-нибудь пьяный финн или любвеобильный француз — излишне задерживались или переходили границы, выпускницы Глечика затягивали:
Ленинградский наш «Зенит» — и финна как не бывало, а француз выбрасывался в окно.
— А теперь игра в «Зените»… — и много повидавшие на своем веку чекисты поднимали руки вверх… Глечик уехал первым…
* * *
В аэропорт его провожал все тот же эскорт. Он двигался к трапу, как высокий гость африканской страны. Летчики международных линий с завистью смотрели на него. Торжественное шествие остановилось у трапа. Глечик печально оглядел свой эскорт.
— Девочки, — начал он, — вся наша жизнь — это актерское мастерство и сценическое движение. Мне пора отдохнуть! Семьдесят лет на императорской сцене!!!
Глечик поцеловал эскорт и, стряхивая пепел с потухшей сигареты, поднялся по трапу. Самолетное брюхо съело его.
Завыли моторы и осиротевший эскорт, забыв приемы комического, заплакал. Впервые за долгие годы ему некого было охранять.
Самолет дрожал и разворачивался. Непонятно, каким образом, вдруг открылся хвостовой иллюминатор и из него показалась полупустая бутылка «Столичной» и взлохмаченная морда Глечика. Он отчаянно ругался, видимо, отбиваясь от наседавшего экипажа.