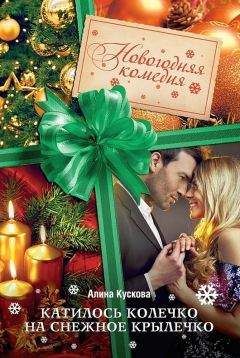В узкой комнате увидели огромный дубовый стол с крышкой из квадратов темного и светлого дерева. Должно быть, когда-то за этим столом садилась обедать большая семья, которую потом уплотнили. Столовая и зала превратились в ряд маленьких проходных клетушек. А стол, задвинутый в угол, уже нельзя было вынести, не рубя стен. В темноте стол этот представал основой здания, как будто весь дом держался на нем. Там же они нашли склеенную китайскую вазу с чешуйчатыми красно-синими драконами на боках, заполненную крышечками от молочных бутылок.
На подоконнике, рядом с нестандартными банками она увидела алоэ в горшке. Она не любила комнатных цветов, жалких пленников, живущих фильтрованным светом, но этот согнувшийся столетник с худосочными листьями спрятала на груди, расстегнув пальто, и унесла с собой.
Обычно его походы давали мало трофеев: треснувший фаянсовый абажур с зелеными птицами, почерневшие держатели лампад, пыльная этажерка с чернильными кружками, — но милы были сами эти беззаконные прогулки, проникание в высокие комнаты с лепными потолками. Почти в каждой квартире оставался комод, и он нагляделся самых разных — светлых из ореха и отделанных красным шпоном громоздких комодов, с пустыми ящиками, выстланными бумагой. Из старых шкафов были вынуты зеркала.
В деревянном длинном строении, где полы в помещениях были на разной высоте и коридор шел ступенями, нашел он два стула с красивой резьбой на высоких, мореного дуба спинках. Обивка их была так засалена, что казалась в темноте черной кожей. Он взял стулья домой, радостно и неумело занялся реставрацией. Дерюжкой коврового рисунка обтянул сиденья, набитые конским волосом, прижав ткань мебельными гвоздями с золотистыми головками, которые удалось купить на скобяном развале у рынка.
Как правило, в брошенных домах не оставалось ни одежды, ни тряпок, порой крашеные полы были невероятно чисты, и только квадраты, где стояла крупная мебель, выделялись шершавостью и особым оттенком краски.
Лампочки всегда были вывинчены. В одной совершенно пустой квартире он заинтересовался медной люстрой. Потолок был высок, и чтоб снять ее, пришлось притащить туру с улицы, с ремонтного участка. На широком, красной меди обруче выгибались три змеи из светлого металла с петельками вместо пастей, куда продеты были бронзовые цепочки.
Ему нравилось все старое. И он возликовал, когда нашел небольшой сундучок, окованный оловянными полосками в ромб с пластинками разноцветной слюды на крышке.
Он даже не брал всех вещей, которые находил, только рассматривал, восхищаясь их незнакомым обликом и долговечностью.
Дома были разные, но в каждом своеобразие и особость. Лестницу в парадном неряшливо оштукатуренного особняка, где на площадках стояли вечно переполненные мусорные ведра, украшали дубовые панели с зеркалами в простенках, указывая, что не всегда здесь жило по пять человек в каждой комнате, были времена получше.
Кое-где печки, уже не используемые с вводом парового отопления, были по-мещански заклеены обоями, но в большинстве случаев белые кафели блестели, как новые, а в кухнях самых старых домов огромные русские печи были облицованы крупными изразцами, с бирюзовой обводкой по краям.
Их дом был деревянный и потому в нем всегда было хорошо: зимой, когда натоплено, жарко, прохладно летом, благоуханно весной. Отопление работало, нельзя же было отключить один дом из круговой системы теплоцентрали, но где-то прикрутили вентили так, чтоб только-только не рвало от мороза батареи. Топлива, которое он набирал во время ночных прогулок: щепок, старых досок, остатков мебели — хватало. Каждый вечер он сидел перед открытой печной дверцей на самодельной низкой скамеечке, любуясь огнем и удивляясь, какая энергия заложена в дереве, как много жара дает какой-нибудь кружок старого бревна.
Он клал ковровую подушку на пол перед печью и звал свою мечтательницу. Она садилась лицом к огню, прямо между его раздвинутыми коленями, и он выдыхал тепло на узкий островок шеи между воротником и стрижеными волосами, а она вдыхала ореховый солоноватый мужской дух и эфирный аромат горящей смолы, похожий на запах ночного поцелуя, этой ротовой влаги, испаряющейся с горячей щеки, и смотрела, как кудрявится кора на поленьях в печи и зеленым пламенем вспыхивают цветные страницы старых журналов.
И потом ночью она вслушивалась в скрип половиц под чьими-то неровными шагами, но никому не рассказывала о странных звуках, которые называла про себя ангельским говором. Перед сном или в тихом одиночестве возникала успокаивающая мелодия, сладостное завывание, как воркованье незримого голубя с неповторимым ритмом: “Мгуа-мгуа-мгуа” — уговаривание и счастливый плач.
Порой, входя в квартиру с улицы, она боковым зрением видела разбегающихся серых зверьков — то ли зайцев, то ли узкотелых ласок — и принималась искать их, никогда не находя. Он смеялся таким ее рассказам, и она таила теперь подобные происшествия, понимая, что это похоже на симптомы психопатии.
Иногда, засыпая, она чувствовала себя лежащей на каменной белой плите, похожей на огромное надгробье и разогретой желтым светом, и ощущала себя такой большой, с тяжелыми руками и ногами, крепко прижатой к плоскости, что будто даже не могла шевелить пальцами от рыхлости тела.
Как-то она читала допоздна в постели и вдруг была увлечена танцем неизвестно откуда взявшегося птичьего хвостового пера. Стоймя поднявшись на полу, оно распушилось от сквозняка, и его лакированная ость согнулась раза два, вычурно ей кланяясь. Но когда она встала, чтоб схватить эту не в меру расшалившуюся мизерию, ничего не оказалось, и она долго ползала в недоумении на коленях, заглядывая под стол.
Она писала стихи и, как говорили однокурсницы, гениальные. Но с публикациями ей не везло.
Время от времени она ходила по редакциям журналов в надежде пристроить свои опусы. В коридорах там обычно слонялись ждущие приема авторы. Поэты охотно предлагали, а иногда просто навязывали ей посмотреть свои произведения. Немало было среди них людей психически явно нездоровых, с путающейся речью и судорожными движениями. Как-то изможденная немолодая женщина с прической “ракушка”, в сером, козьего пуха платке на плечах, жаловалась ей: “Не печатают, а мне надо в Союз вступать!”
В знаменитом комсомольском журнале (“цекамоловском”, как говорили тогда) поэтов принимал лохматый прокуренный человек с ироническим взглядом.
Моя поэтесса входила, глубокомысленно потупившись, и садилась, пряча под стул ступни в старых ботинках. Консультант брал стопку стихов и сначала, зажав листы в правой руке, щелкал пачку по ребру, как бы оценивая, не много ли. Потом быстро и равнодушно читал, иногда сосредоточенно выверяя рифмы, и вдруг вскидывался: “Ваши стихи?” Она кивала, боясь сказать, что уж она не в первый раз приходит. Он читал все до конца, решительно откидывая прочитанное, в то же время глубоко затягивая в бронхи сигаретную теплую отраву. Затем метил особым знаком — крестом и минусом — две-три страницы, упирался лбом в собственную ладонь и, тыча тупым концом карандаша в текст, говорил басом: “Это банально. Это свежо, но не ново. Не дотягиваете вы до современного уровня, хоть вы и не графоманка. Попробуйте что-нибудь эпическое. Мне вот это нравится, но ваши стихи очень уж беззащитны. Как их защищать перед редколлегией? Их надо подпереть. Может быть, у вас есть другие стихи?” — “Какие другие?” — не понимала она, пугаясь. “Давайте договоримся, я беру вот эти, а вы пришлите мне в конверте пару гражданских стихов. Подборке нужен паровозик, такое стихотворение, которое вывезет остальные”. Это был самый благожелательный консультант, и она, радостная, шла по улице, хоть и знала, что послать ей в журнал нечего, а гражданские стихи ей были известны из школьного курса литературы: “Люблю отчизну я, но странною любовью”.
В других местах ее встречали гораздо хуже. Как-то случился такой эпизод. В редакционном предбаннике бледный и весьма уже немолодой человек читал стихи о том, как он видит свою любимую — трупом со снятой кожей (“плоть как разбитый арбуз”). Когда подошла очередь моей стихотворицы, он вскочил в святая святых впереди нее с криком “Напечатайте ее!” — должно быть, в благодарность за то, что она сочувственно выслушала его коридорные завывания. На это ответственный сотрудник журнала, взревев: “Мы — профессионалы!”, выхватил из рук нашей барышни ее листочки и, выкрикивая по одной начальной строчке каждого стихотворения, возмущенно вопрошал: “Это напечатать? Это напечатать?”. И затопал на нее, бедную, ногами: “Мы не допустим эротики в молодежном журнале!”
Действительно, все ее стихи были о любви, и все они были посвящены одному лицу, которое представало как некто длиннопалый и смуглолицый. Красота адресата особенно отвращала от стихов вершителей поэтических судеб. Да еще ее строки пестрели старомодными оборотами и чуть ли не цитатами из Библии (“Глаза твои голубиные”), и хотя ссылок она не делала, в журналах нюхом чуяли что-то опасно архаическое в тексте.