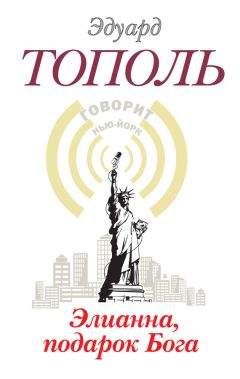— You are great writer! Can I take it with me? I want my wife to read it. (Ты большой писатель. Могу я взять этот журнал? Я хочу, чтоб моя жена это прочла.)
Я замешкался, вспоминая, есть ли у меня еще экземпляр, но Марик пнул меня под столом ногой, и я бодро сказал:
— Sure! Конечно! Для меня большая честь, что мой очерк будет вашим семейным чтением.
— Thank you… — сказал мне Родригес и повернулся к Палмеру и Карганову: — Теперь вернемся к бизнесу. Если бы вы просили миллион, я бы рассматривал ваше предложение. Но вы просите сто тысяч, это не выглядит серьезно. Извините, друзья. Всего хорошего.
И с этими словами Родригес встал и ушел с моим журналом под мышкой.
Ошарашенные Палмер и Карганов молча сидели за столом.
А я не знал, огорчаться мне или радоваться. Все-таки самый настоящий итальянский гангстер плакал над моим текстом.
— Мои друзья в Лонг-Айленде открывают русскую баню, — сказала Элианна. — Я думаю, ты сможешь работать там менеджером.
— Спасибо, дорогая. Но я приехал в Америку не для того, чтобы быть тут банщиком.
Мы стояли в моей новой келье — маленькой студии на South Pinehurst Drive. Смеркалось, но еще можно было обходиться без света. Я курил у форточки, колени обжигала раскаленная батарея парового отопления. Справа за окном снова гудел мост Джорджа Вашингтона. А Эли, уже в пальто, стояла у кровати над собранным чемоданом.
— А для чего ты приехал? — спросила она.
— Ты знаешь. Написать роман о нашей эмиграции.
— Но почему ты? Пусть пишут Бродский, Довлатов, Рубин.
Я пожал плечами:
— Пусть пишут…
— А на что ты будешь жить?
— На пособие по безработице.
— But it’s nothing! Это же ничего!
— Когда я приехал, жил на доллар в день…
Она закрыла чемодан и щелкнула его замками. Потом села на кровать рядом с чемоданом и сказала беспомощно, со слезой в голосе:
— Нет, я не смогу так жить…
— Конечно, дорогая. Но ты не станешь жить со мной, даже если я буду менеджером русской бани.
— Ты сволочь.
— Наверное. Такси пришло.
За решеткой окна, выходящего на заснеженную South Pinehurst, действительно остановилось желтое такси.
— Ты все же подумай о моем предложении, — сказала Эли и встала.
— Конечно, подумаю. Спасибо.
Я погасил сигарету, взял ее чемодан и пошел к двери.
— Оденься, — сказала Эли. — Там мороз.
Я не остановился, и она пошла за мной, но задержалась у двери и оглянулась на эту комнату, из которой она уходила от меня навсегда. Но мы только утром въехали сюда, и кроме кровати и двух стульев, оставленных предыдущими жильцами, в комнате не было ничего.
Через холл, который мыл молодой супериспанец, мы вышли на улицу. Морозный ветер с Гудзона терзал снежную порошу и захватил дыхание.
За рулем такси сидел молоденький шофер и читал вчерашнюю газету «Новое русское слово» со статьей о банкротстве радиостанции WWCS. Увидев нас, он хотел выйти из кабины, чтобы положить чемодан в багажник.
— No, it’s okay, — остановила его Эли. — I’ll take it with me. (Нет, не выходите. Я возьму с собой.)
Я понял, что она не хочет, чтобы он узнал в нас русских, поставил ее чемодан на заднее сиденье и сказал:
— Okay, good luck. (Пока, удачи.)
Она сделала какое-то мелкое движение ко мне, чтобы, наверное, обняться, но я не шевельнулся ей навстречу, и она обиженно замкнулась.
— All right, — сказала она. — Stay good. (Пока, будь здоров.)
И села в машину.
Я захлопнул дверцу, а она, сидя внутри, подняла руку:
— Good bye… — И повернулась к водителю: — Long Island.
Он ударил по рычажку таксометра, и машина тронулась.
Я стоял и смотрел, как в заднем окне этой желтой машины от меня все удалялось и удалялось лицо моей Элианны, подарка Бога. Я так любил играть с этим подарком и называть ее то Эли, то Эллен, то Лиана, а то просто Аня…
Тут такси свернуло на 181-ю улицу, и я его больше не видел.
Ветер мел снежную пыль по серому замороженному асфальту.
Я вошел в подъезд и, хлопая себя по плечам, спросил у супера:
— Do you have any furniture? (У тебе есть какая-нибудь мебель?)
— Sure, — сказал он. — In the basement. (Конечно. В подвале.)
Вдвоем мы принесли из бейсмента старое кресло, вполне сносный кухонный стол, этажерку и даже кое-что из посуды — чайник, две кастрюли и прочую кухонную мелочь. Квартиранты, пробившись в люди, оставляют в квартирах дешевую мебель и остальное барахло, а суперы прибирают это в подвал для следующих нищих.
Я сварил себе кофе, поставил на кухонный стол «Эрику», открыл новую пачку Marlboro и сел работать. Целый океан мощных характеров и вкусных ситуаций — от Марика «Грома» до Николая и Раи Кондратьевых с их ланченетом «Меркурий» и от похищения Мишиной невесты из Финляндии до бизнес-ланча с бруклинским мафиозо Хулио Родригесом — лежал передо мной за темным окном моей новой кельи. Но первой фразы, с которой мог покатиться роман, еще не было, и я терпеливо ждал, куря и глотая горький кофе. Ведь известно, что «В начале было Слово». Подумав об этом, я подошел к этажерке, взял тонкую брошюру, отредактированную мной год назад для маленького еврейского издательства Al Tidom, и стал читать русскую транскрипцию древней молитвы:
— Барух Ата Адонай Элухэйну… Благословен Ты, Всевышний Господь наш, подаривший нам жизнь и благословивший нашу работу…
Так уж мы устроены. Верующие благодарят Бога каждый день, а атеисты обращаются к Нему, только когда им плохо и страшно. Мне было страшно не тогда, когда я приехал, а позже, когда я понял, что «дошел до дна, пошел по дну» и всплыть невозможно — нет ни языка, ни профессии. Тогда я бегал по утрам под мост Вашингтона и зарядкой на берегу Гудзона гасил ночные кошмары. Теперь мне не было страшно, просто я понял, почему обанкротилось наше радио и почему ушла Элианна. Там, Наверху, решили, что иначе я никогда не сяду за свой роман. А теперь я сел и искал первую фразу.
Но ее все не было, и в полночь, не в силах уснуть, я оделся и пошел на Бродвей. Там было морозно, ветрено и пусто — зимой пуэрториканцы не галдят на улицах, а прячутся в квартирах и смотрят бейсбол и мыльные сериалы. Все же на углу 183-й горела неоновая вывеска какого-то бара. Это было как раз то, что мне нужно, и я вошел. Еще с порога мне показалось, что на высоком табурете у стойки сидит знакомая фигура. Но она сидела спиной ко входу, и, только подойдя к стойке, я понял, что не ошибся. Это была Луу. На ней была юбка выше колен с таким обещающим разрезом, что я смело сел рядом на такой же высокий табурет.
— Can I buy you a drink?
Она даже не повернулась, а сказала, не глядя:
— Это стоит сто долларов в час или триста за ночь.
— Ого! — удивился я. — Извини, у меня нет таких денег.
Теперь она взглянула на меня, но ничто не дрогнуло на ее китайском лице.
— А, это ты. Ты же сказал, что ты богатый.
— Жизнь полосата. А где твой муж?
— Его убили.
— За что? Из-за тебя?
— Нет, за наркотики, — сказала она и, подумав, добавила: — Ладно, купи мне водку.
— Две дабл водки, — сказал я бармену.
Сегодня, когда я заканчиваю этот роман, в Нью-Йорке работают несколько русских радиостанций, а самая большая из них даже называется «Давидзон-радио». Но я не думаю, что она принадлежит Элианне.
Москва — Вена — Рим — Нью-Йорк — Москва 1978–2013
NYANA — New York Association for New Americans, Inc. (Нью-Йоркская ассоциация для новых американцев).
HIAS (ХИАС) — старейшая благотворительная организация, помогающая еврейским эмигрантам.
Много позже, когда в 2000 году Суламифь Мессерер приехала из Лондона в Москву на вручение премии «Душа танца», балерина, забыв о возрасте, вышла на сцену и станцевала канкан. Ей было 92 года…
Гой — не еврей (идиш).
Беспорядок (идиш).
1 февраля 1865 года шестнадцатый президент США Авраам Линкольн подписал 13-ю Поправку к Конституции об отмене рабства, за что уже в апреле был убит безработным актером Бутом. Еще до освобождения черных рабов Линкольн предполагал после эмансипации выслать их (уже свободными людьми, на добровольных началах, снабдив средствами на обустройство) домой в Африку, где специально для этой цели была создана страна Либерия, в которую успели-таки выслать несколько десятков тысяч человек.
Из письма Авраама Линкольна к Хорасу Грили от 22 августа 1862 г.:
«Я настоял на переселении негров (обратно в Африку), и я буду продолжать. Моя Декларация равенства связана с этим планом (переселения)… Я не могу представить большего бедствия, чем интеграция негра в нашу социальную и политическую жизнь в качестве равного нам… В течение двадцати лет мы сможем мирно переселить негра <…> в условия, в которых он сможет в полной мере стать человеком. Этого он никогда не сможет сделать здесь… Я не выступаю и никогда не выступал ни за предоставление неграм права голоса или права быть членами жюри присяжных, ни за то, чтобы они имели право возглавлять правительство, ни за то, чтобы они заключали браки с белыми. В дополнение к этому я должен заявить, что между белыми и черными существуют такие физические различия, которые навсегда исключают возможность совместного проживания двух рас на условиях общественного и политического равенства…».