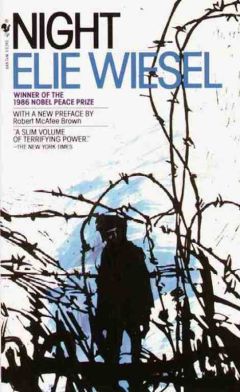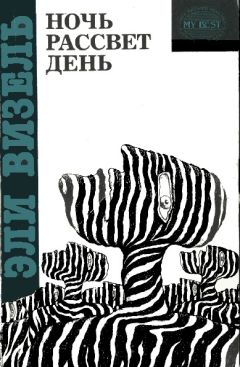Как сейчас вижу эту сцену. Каждан, с зажатым в пальцах мундштуком, уже видит себя на передовой, он там — старшина, увлекающий взвод в атаку. Его аж трясет от возбуждения. Кто-то недоумевает:
— Но ведь ты никогда не служил в армии! Не держал в руках оружия!
— Ну и что? — раздраженно вопрошает он, негодуя, что какие-то досадные подробности помешают ему командовать атакой. — Разве смелость и патриотизм не в счет?
Самое забавное, что в тот момент мы все думали, как он. К черту логику, да здравствует вера!
Фелдринк, ероша заросли спутанных волос, декламировал стихи в духе библейских: там Гитлеру, подобно фараону, было предписано утонуть в пролитой им крови. Он уже видел себя выступающим с речью о военной еврейской поэзии или об еврейской поэзии военного времени.
Хмурый, весь подобранный, плотный Моравский пытается не терять головы:
— Мы, конечно, победим, однако…
Кто-то с вызовом перебивает:
— Однако — что?
— Пытаюсь представить, чего это будет нам стоить, — хмуро уточняет он.
Моравскому уже за пятьдесят, он опасается, что его признают негодным для военной службы. Тем хуже: придется утаить свой возраст. Еврейскому поэту вечно необходимо утаивать свой возраст, чтобы казаться моложе или старше.
На следующий день я узнал, что Каждана и Фелдринка взяли в авиационные войска, а Моравского — в пехоту. Что до меня, то после медицинского освидетельствования, впрочем довольно поверхностного, я был признан негодным. Я возмутился:
— Но я же не болен! Никогда в жизни не болел!
— Никогда? — удивился врач. — А когда было последнее обследование?
— Ой, и не вспомню.
— Так вот, теперь я его сделал, и результаты не блестящи. Говорю прямо, нам сейчас темнить не с руки.
— А что не в порядке?
— Сердце.
Я тоже «выкрутился»: сделал вид, что моя медицинская карточка потеряна, и, воспользовавшись ужасающей неразберихой на всех ступенях власти и жизнедеятельности во всех отделах любого наркомата, быстро сменил потертый штатский костюм на не менее поношенную армейскую гимнастерку.
Наконец — впервые с тех пор, как приехал в СССР, — я был счастлив. Ведь все может случиться в жизни поэта, и действительно случается всякое. Я с состраданием представлял себе своих парижских друзей, изнывающих под игом немецкой оккупации: им не выпало такой удачи, как мне.
Только не подумайте, гражданин следователь, что сын Гершона Коссовера, а тем более ученик реб Мендла-Молчальника внезапно преобразился в бесстрашного и неукротимого русского воина, в какого-нибудь казака на лихом коне. Несмотря на шинель и воинскую книжку, я не умножил число сражавшихся с моторизованными немецкими частями. Невзирая на опыт, приобретенный в интербригадах, я натыкался на непреодолимые препятствия. Я был полон решимости, делал искренние попытки, но не смог вписаться в жесткие условия армейской жизни. С моей неспортивностью все обошлось: от этого не умирают. С внезапными побудками и марш-бросками я тоже как-то справлялся. Правда, я кашлял, шла горлом кровь, меня мучили головная боль и бесконечные сердцебиения, однако я не жаловался. Солдат Пальтиель Гершонович Коссовер готовился к войне, не вызывая нареканий начальства.
А вот чего я не мог выносить — вы будете смеяться, — так это армейского жаргона. Я имею в виду не владение языком: с ним я уже достаточно хорошо освоился, чтобы говорить, как любой из моих товарищей. Но вот жаргон! Мне не удавалось к нему приспособиться. Слишком грубый и оскорбительный, слишком примитивный. Я бледнел от усталости, но одновременно краснел от стеснительности, как невинный ученик ешивы, в ярмарочный день невзначай очутившийся на площади среди пьяной швали.
В Испании все было не так. Конечно, и там солдаты не вели себя, как святоши, они сходили с ума от каждой юбки и ругались неистово, изобретая все новую похабщину, будто опасались, что старой им не хватит. Но там я, к счастью, не понимал их речей. Для того чтобы оценить всю их оригинальность, пришлось бы освоить начатки трех десятков древних и новых языков. А тут я все понимал. И помимо сознания и воли мало-помалу сам начал говорить так же, как соседи по казарме, то есть таким же образом, как любой солдат Красной армии.
Наша часть входила в состав 96-й пехотной дивизии, где можно было встретить представителей всех народов СССР: калмыков, узбеков, татар, грузин, украинцев. Их глаза видели и сибирские снега, и украинское солнце, помнили темные воды Волги и Днепра. Высшее командование держало нас в резерве для обороны Москвы, которая ожидалась зимой. Все отказывались в это поверить и, однако, верили. Захватчики продвигались все вперед и вперед, они казались непобедимыми, несокрушимыми, безжалостными, словно всадники Апокалипсиса. Наполеону это уже удалось. Но мы корсиканца вздули и собирались так же, если не еще жестче, поступить с берлинским маньяком. Пусть только попробует, мы ему башку открутим и проволочем по московскому снежку. Надо было проводить одно учение за другим, готовясь к тому решающему дню. Были ли мы действительно к нему готовы? Не думаю. У нас ничего не было, даже ружей. Но что до живой силы, тут наши резервы оставались неисчерпаемыми.
А вот мои личные силы уже подходили к концу.
В начале сентября я стал причиной довольно неудобного, с точки зрения начальства, происшествия во время инспекции генерала Колпакова. В ожидании этого события мы много раз повторяли одни и те же проходы и атаки, многократно впадая в какое-то коллективное безумие, без которого ни одна уважающая себя армия не может функционировать. Лейтенанты орали, сержанты вопили, бедные солдатики бегали туда-сюда, карабкались, падали и вскакивали, отдавали честь, замирали, уставившись в какую-то невидимую точку справа или слева от себя, прямо перед собой, выполняли команду «на пле-чо!», клацали винтовкой, как кнутом, вскидывали ее и прицеливались, кнут щелкал снова — и все сначала. Генерала боялись так, что на время забыли даже о противнике.
И вот великий день настал. Выстроившаяся в каре 96-я дивизия с развевающимися на ветру знаменами четко, как один человек, откликалась на команды полковника — начальника лагеря. Застыв неподвижно, словно бетонная свая, стоял и я. Генерал обходил строй. И вдруг остановился, причем прямо передо мной. Он стал меня разглядывать с головы до пят, будто какое-нибудь экзотическое дерево, упавшее на плац прямо с небес, притом в солдатских штанах и гимнастерке. Окаменев от испуга, я старался смотреть сквозь него, чтобы не показать, как я его боюсь. А чтобы лучше скрыть замешательство, прибег к старому доброму приему: мысленно перенесся куда-нибудь подальше — вот я снова с Ингой в Берлине, с Шейной в Париже, с отцом и матерью в Белеве. И тут отец грустно спросил меня: «Это ты, сынок? Это и вправду ты?» — «Ну я, твой сын. Приглядись получше, может, узнаешь». — «А ты действительно остался моим сыном? Ты выглядишь по-другому. Говоришь, ешь, одеваешься, будто какой-нибудь Иван или Алексей. Не как настоящий еврей». — «Ну что ты, у меня даже тфилин с собой — в торбе на плече, хочешь, сейчас надену?» Он кивает. Я достаю вещмешок, дрожащими руками открываю его, роюсь среди странных вещей, что туда напиханы, ищу торбу для ритуальных свитков и не нахожу. Весь обливаюсь обжигающе холодным потом: куда же я дел свои филактерии? Мне так страшно и стыдно, что уже нет сил держать равновесие: я цепляюсь за отца и растягиваюсь у его ног… то есть падаю, вытянувшись по стойке смирно, как положено по уставу…
Очнулся я уже в госпитале. Какой-то усатый дядька с перекошенной от злости рожей орал у меня над ухом:
— И этот жалкий кретин, эта скотина вздумал сражаться с немцами?
Отвращение душило его, он хрипел, брызжа слюной:
— Куда ты затырил свою медкарту? Спрятал, сукин сын? Вздумал поиграть в героя? От тебя здесь один беспорядок, а тебе наплевать? Из-за тебя мы теряем драгоценное время, а тебе наплевать? Знаешь, как такие штучки теперь называются? Саботаж! А что за это полагается? Пуля!
Он хотел меня отправить куда-нибудь в тыл, в гражданский госпиталь, а потом послать «к домашнему очагу». Прямо так и сказал! Я с ним спорил, грозил покончить с собой:
— У меня нет очага, я не знаю, куда идти, у меня нет никого: я — поэт!
Звучит абсурдно, глупо, смешно, но именно последний аргумент убедил доктора Лебедева, еврея из Витебска, что меня не надо далеко отсылать. Он оставил меня под своим началом и даже объяснил почему:
— Знаешь, один парень, влюбленный в очень красивую девушку, стал ей писать по письму в день… Так вот, она вышла замуж за почтальона.
— Не вижу связи.
Он, похоже, рассердился:
— Не видишь? Ну так я тебе сейчас объясню. Дело в том… в том… А, черт, я рассказал не тот анекдот. — И он расхохотался: — Просто я таких повидал. Ты бы нашел способ вернуться и всем нам жизнь отравить! Нет, раз ты уже здесь, лучше оставить все, как было.