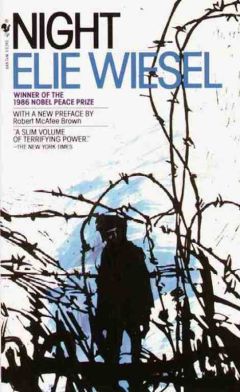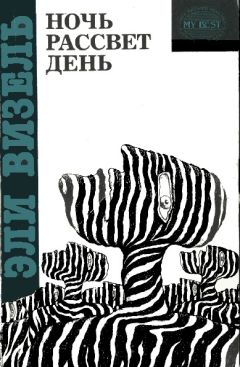— Не вижу связи.
Он, похоже, рассердился:
— Не видишь? Ну так я тебе сейчас объясню. Дело в том… в том… А, черт, я рассказал не тот анекдот. — И он расхохотался: — Просто я таких повидал. Ты бы нашел способ вернуться и всем нам жизнь отравить! Нет, раз ты уже здесь, лучше оставить все, как было.
С его легкой руки я и стал санитаром, из тех, что бродят с носилками в поисках раненых.
— Будешь таскать других, пока самого не потащат, — пояснил Лебедев.
Одним словом, так началась и закончилась моя воинская эпопея.
Лебедев был воспитанным и мягким человеком. Когда он вспоминал Витебск, на его морщинистый лоб падала черная прядь, а губы нервически подергивались. Мы прекрасно понимали друг друга, хотя были совсем разными людьми. Он, например, пил, как лошадь, я же только делал вид, что пью. Я часто злился, а он лишь притворялся, что тоже рассержен. Он запрещал мне курить, а мне его махорка нравилась почти так же, как ему самому.
— Черт тебя возьми, — отечески укорял он меня. — Если б ты и так не был болен, тут уже наверняка бы заболел. А если б я не был уверен, что ты скоро сдохнешь, сам бы задушил вот этими руками!
— Как же так, товарищ врач? Вы что, мало больных угробили? Надо еще чуток?
Я знал, как его рассмешить, и он был очень мне благодарен за это. Вот мой вклад в дело войны: я смешил. А в те времена, осенью 1941 года, смех ценился, он тогда был редкостью.
Газеты об этом молчали или упоминали весьма невнятно, но наша армия, застигнутая врасплох немецким ударом, выглядела довольно жалко. Я-то знаю: сам там был. Оборону никто не подготовил, все действовали наобум, почти вслепую. Города и укрепрайоны сдавались без сопротивления: вражеские танки крошили все на своем пути, защитники гибли, как мухи, или сдавались всем скопом. От поступающих раненых и из планов эвакуации, над которыми корпели в наших штабах, медики знали, что происходит. После Киева, Одессы, Харькова подходил черед Москвы.
С каждым днем Лебедев становился все более хмурым. Он знал нечто такое, о чем я не догадывался. Я задавал ему вопросы, но он их жестко отметал. Когда я настаивал, он сердито отворачивался. И все же однажды, сидя в натопленном бараке с бутылкой водки на столе, он заставил меня поклясться, что сохраню все в тайне, и в общих чертах обрисовал положение евреев на захваченных немцами землях. По сообщениям партизан и агентов, заброшенных за линию фронта, можно было судить об их истреблении.
— Не понимаю, не понимаю, — озадаченно твердил он.
— Что тут непонятного, товарищ полковник? Немцы ненавидят евреев, русских и коммунистов. Они достаточно много об этом кричали. А теперь все эти люди в их власти. Вот они их и убивают, это в порядке вещей…
— Но все-таки, все-таки, — повторял Лебедев и пил.
— Вы их не знаете, а я знаю. Они — бесчеловечные варвары. Способные на все ужасное, что можно придумать.
— И все-таки, все-таки, — не унимался Лебедев, совсем меня не слушая.
Он прислушивался к другим голосам, тем, что звучали в его собственной душе.
— Я знаю всех в Витебске. Я там вырос. Я там лечил больных, всех, без различия веры или крови. Почему добрые жители Витебска позволили этим извергам убивать своих соседей-евреев? Они ведь могли их защитить. Спрятать. Но не сделали этого. Сорок лет коммунистического воспитания… Не понимаю, не понимаю.
Между нами была большая разница. Я знавал Берлин, а он считал, что ему все известно о Витебске. Витебск просто пожертвовал теми, кого Берлин приговорил к смерти.
— И все-таки, все-таки, — бормотал Лебедев. — У меня есть друзья, которым я подарил год, два или десять лет жизни.
Успела ли его семья уехать из Витебска? Мне хотелось задать ему этот вопрос, но в конце концов я решил не спрашивать.
Дни и ночи длились, как в нескончаемом сне. По мере того как наши армии отходили, в лагере для подготовки бойцов все жарче кипела жизнь. Вокруг Москвы жители рыли траншеи. Здесь же врачи готовили передвижные госпитали. Если октябрь прошел в атмосфере повышенной тревожности, то в ноябре воцарилось недоверие к слухам. Враг продвигался слишком быстро по слишком многим направлениям одновременно. Боги войны ему благоприятствовали. Спасти нас могло только чудо, но кто, кроме евреев, верит в чудеса? Да и евреи навряд ли теперь в них верили.
Однако же чудо случилось. Оно слишком известно, чтобы мне на нем задерживаться: генерал Мороз перешел в наступление, и все закончилось. Вместо того чтобы принимать солдат, раненных в боях, наш лагерь стал лечить жертв обморожения. Мест не хватало, но мы не жаловались. Напротив, мы поздравляли друг друга с таким везением, словно внезапное необъяснимое падение температуры было подвигом, задуманным и исполненным нашим высшим командованием.
Странное дело: хотя я и был с медицинской точки зрения болен, причем серьезно (все это есть в моем личном деле), внешне на мне это никак не сказывалось. Мое состояние не только не ухудшалось, но я себя чувствовал вполне нормально. Лебедев не скрывал удивления:
— На моих глазах ты помирал, а теперь ходишь бойкий, словно маляр на стройке.
— А почему маляр, товарищ полковник?
— Не знаю. Я одного такого когда-то видел у себя в городе. У него был вид носильщика.
— А почему носильщика, товарищ полковник?
— Не знаю. Потому что… Оставь меня в покое.
Долгие мрачные вечера мы коротали за разговорами, речь шла о евреях, о литературе, философии. Он знал, что я поэт, но я обходил эту тему. Фронту нужны были солдаты, а им — медбратья с носилками, а не поэты. Но однажды ночью, когда царило какое-то особенное молчание, как в первые времена творения, я не мог не процитировать ему несколько стихов о смерти и об умирающих. Они принадлежали не мне, а одному малоизвестному средневековому автору, дону Педро Барсалому, уроженцу Кордовы и другу кастильских евреев. В моем переложении на идиш это выглядело так:
Ах, эти немые и кровожадные
умирающие! Они вечно толпятся
в памяти ангела,
его же и проклиная…
— Хорошо читаешь, — одобрительно кивнул Лебедев, вытягивая ноги на кушетке. — Продолжай.
Я прочитал вторую строфу:
Ах, смерть, ты способна гасить
горящее пламя,
но солнце, молю, не туши,
что тебя освещает…
В эту ночь Лебедев забыл о бутылке. Прикрыв глаза, он слушал. Ждал продолжения, но я все забыл.
— Читай еще, — попросил он.
Я же рылся в памяти, возносил мольбы своему приятелю сефарду Давиду Абулезия, благодаря которому открыл для себя этого кастильского поэта, но все напрасно. Усталость и давящее напряжение тех дней измотали ум, я жил от радиосводки до радиосводки, от приказа к призыву, из тех, что выдавали на-гора наши политруки. А Лебедев не унимался.
— Ну же! — нетерпеливо подстегивал он. — Ты что, спишь?
И тут я от безвыходности и отчаяния стал импровизировать. Разумеется, не подавая виду. Позднее, когда я открыл ему правду, он очень смеялся.
— А что хуже: приписать себе чужие стихи или чужому — свои?
Я отвечал ему, что поэты и берут, и отдают обеими руками: чем больше получают, тем ревностнее возвращают. Поскольку поэзия…
— Ты мне сейчас прочтешь цикл лекций о поэтическом мастерстве? Нет, так не пойдет, — заявил он, вставая с койки.
— Прошу прощения. Увлекся. Больше не повторится.
— Ну вот, он уже и губы надул! Я тебя обидел?
Я промолчал.
— Если обидел, прими мои извинения. Не знал, что ты такой чувствительный.
— Да нет, просто… — Я запутался, мне никак не удавалось закончить фразу.
Лебедев попытался меня успокоить:
— Все хорошо. Для санитара ты все-таки престранный экземпляр.
— Я еще и престранный тип для поэта, товарищ полковник.
Те ребяческие вирши, что я придумал для него взамен позабытых строф дона Педро Барсалома, вылетели у меня из головы, как и все прочее, что тогда сочинилось. Зима похоронила в снегу мой голос. Я смотрел, как Лебедев отрезает руки и ноги, я склонялся над умирающими, вдыхал запах их ран — и мне нечего было сказать тем, кто будет жить после меня. На моих глазах оборвалось столько жизней, что смерть убила во мне слово. Я слушал голос ветра, прилетевшего из дальних степей и визжавшего, как тысячи животных у ворот бойни. Он заглушал то, что вырывалось из моего рта.
— Лучше пей, — говорил Лебедев. — А то ты уже доходишь.
Мне становилось все хуже и хуже. Однажды голова закружилась так, что я упал в снег, чтобы передохнуть. В грудь вонзились иголки.
— Ничего страшного, — успокоил я Лебедева. — В сердце кольнуло, это нормально. А с вашим сердцем все в порядке, товарищ полковник?
— Выпей-ка лучше, — отозвался он. — В твоем случае без этого нельзя.
Два санитара отнесли меня в госпитальный барак. В бреду я раздваивался: сам становился тем санитаром, что нес меня же на носилках. Я слышал голос, да не один, а целых пять, даже десять. Все они спрашивали, не болит ли у меня то или это. А я отвечал: «Да, очень болит: вот здесь и здесь… Но какая разница, ведь я брежу, брежу, и, сдается, я наконец имею полное право бредить».