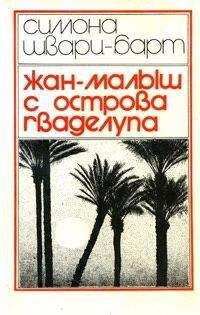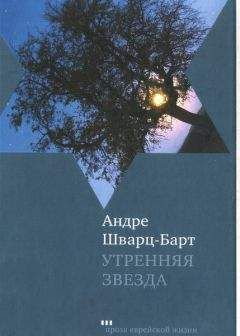Собрав пожитки, он пошел туда, куда вел его браслет. Тот не говорил человеческим голосом: это было так, будто живые ветви деревьев искали его, теряли, снова находили в ночной мгле, обвивались вокруг груди и тянули туда, куда следовало идти. Ветви провели его через ленту мангровых зарослей, над которой он только что парил птицей. У самого шоссе ворчание мотора заставило его нырнуть в траву — мимо промчался грузовик, над кабиной которого был установлен прожектор, ослепительный луч обшаривал окрестности; дальше наш герой пробирался, уже низко пригибаясь к земле, держась подальше от дороги, огибая все встречавшиеся на пути открытые места, где его мог настигнуть сноп света…
Серая мгла растворяла одну за другой ночные звезды; Жан-Малыш двигался вперед не спеша, зорко присматриваясь ко всему, что пряталось в тумане. Как ни странно, он лучше видел не ближние предметы, а то, что находи лось вдали. Он догадался, что дело здесь в браслете, и вскоре опустил веки на свои ненадежные человеческие глаза, отдавшись во власть внутреннего зрения. Вот так, с закрытыми глазами, углублялся он в мертвую, окутанную мглистым саваном страну. Дороги были пусты. Деревни погружены во тьму. Не верещали кузнечики, не пели цикады, ни одну живую тварь не вспугнул он по пути. В предместье Пуэнт-а-Питра на перекрестках желто горели, словно подвешенные дыни, овалы уличных фонарей, но фонари эти ничего не освещали, вокруг них не вился ни один мотылек. Возле моста Лагабар в луче прожектора сиротливо стояла покинутая сторожевая будка с плотно закрытыми дверями и окнами. Он послушно пересек безлюдный мост, двинулся вдоль дороги, ведущей в Пти-Бур, а там браслет потянул его в горы, к вершинам Монтебелло. Он ступил на тропу, проложенную через поле сахарного тростника; тропа эта огибала холм и упиралась в небольшое плато, на котором огромной подковой стояли какие-то длинные строения. Чуть дальше уныло вращалось колесо ромового завода, которое приводила в движение вода канала, прорытого от реки Онзэр. Плато окружала высокая ограда с коваными воротами: это было имение Эннекен, о котором говорил старый калека, где вот-вот должно было разыграться очередное действие истории Вечно-живущего-юноши…
Еще в дороге Жан-Малыш задумался: почему браслет увлекает его в места, о которых упоминал калека? И когда он остановился перед железными воротами, ему в какой уже раз, с тех пор как он упал в африканское небо, показалось, что его водят по всему миру на привязи, тянут, как вола за продетое в ноздри кольцо. И никак не мог понять наш герой, почему его тащат, будто глупую скотину, невесть куда. Но его дело было идти, а не рассуждать, идти ночью и днем, идти, даже если на душе было черно и мрачно, и так было всегда с самого рождения, и в этом занятии он, несомненно, преуспел. Он улыбнулся, распахнул ворота и попал в пустой двор, прошел по платформе, вдоль которой выстроились вагонетки, груженные сахарным тростником. Чуть дальше приторно-сладкую вонь тростника сменил запах барака, где в невыносимой тесноте вповалку лежали на сырой, давно сгнившей соломе десятки рабов. Обойдя низкую постройку, Жан-Малыш направился во внутренний двор с манговым деревом посередине. В облаке серой мглы мерцал островок света. То был костер, возле которого полуночничали два вооруженных раба: один стоял, опираясь на ствол винтовки, другой сидел возле огня и собирался испечь в углях несколько клубней сладкого картофеля. Первый караульщик посмотрел на силуэт человека, подвешенного к самому толстому суку дерева, и рассмеялся недобрым сдавленным смехом:
— Ну что, допрыгался, висишь теперь, как баранья туша, а ведь хотел весь мир вверх дном перевернуть, вот и перевернул!
— Прошу тебя, не вспоминай о баранине, — умоляющим голосом произнес его напарник, — стоит мне услышать это слово, как перед глазами встает рагу, какое раньше делали с мозговым горошком, что так и таял во рту, помнишь?
— Как же, конечно, помню, — с воодушевлением подхватил другой, — мозговой горошек залить острым соусом малис с луком и зеленым лимоном, дать настояться столько времени, сколько надо, чтобы выкурить трубку, потом заправить перцем и тремя-четырьмя головками чеснока, по вкусу, накрыть ненадолго крышкой, подождать, пока горечь выйдет, потом снять с огня и добавить маринаду. Эх, как подумаешь об этом, не верится, что когда-то едал такую вкуснятину. А тебе, дружище, — добавил он, вновь посмотрев на висевшего, — тебе бы тоже небось сейчас не помешала тарелочка рагу в соусе малис? Ты, верно, не прочь присесть к огню и вытянуть поудобней ноги? Хотя что я говорю: скоро ты их навсегда протянешь, набегался по лесу, хватит…
— Ты хотел сказать: не навсегда, а до следующего раза. Послушай, брось это, мне как-то не по себе, когда ты потешаешься над этим несчастным. Смотри, как бы он тебе это не припомнил, когда опять вернется на землю.
— Вряд ли, — проговорил другой, помолчав, — вряд ли Юноша вспомнит о таких пустяках, ведь это я так сказал, без всякого умысла… да нет, что ты, вряд ли он вспомнит…
Однако он все же встревожился, смутно сознавая всю гнусность происходящего, и добавил, обращаясь к раскачивающемуся на ветру под манговым деревом силуэту:
— Кто бы ты ни был, парень, не придавай значения глупым, сказанным не со зла словам; забудь о них, не бери их в голову, в одно ухо влетели, из другого вылетели, и бог с ними. И потом, не обижайся, что мы оставили тебя висеть на суку; по правде сказать, нам-то это совсем ни к чему, мы бы с удовольствием отвязали тебя и усадили у огня…
— Да-да, чтобы ты хоть маленько согрелся, отдохнул перед завтрашним. Но ты же сам знаешь, Заколдованный: горемыкам лучше идти туда, куда ветер дует, к нему подлаживаться, вот так-то…
Юношу подвесили за запястья, но руки связали за спиной, и потому грудь его выдавалась вперед, острыми клиньями торчали плечи, суставы были вывихнуты. В оцепенении наш герой смотрел на это всплывшее из детства лицо, а перед ним проносились картины далекого прошлого, от которых, как он полагал, время не должно было и следа оставить: вот Ананзе с горечью рассуждает о душе негра, вот он держит пламенную речь у проходной сахарного завода, вот забастовщики несут его, как римского императора, на руках. Вот он вслух размышляет возле хижины папаши Кайя о том, как низко пал человек, а в это время жители деревни послушно идут в город за жалким пайком муки и керосина. И вот, наконец, он загадочно улыбается перед тем, как взобраться на окруженную солдатами платформу грузовика, — будто уже тогда он был полон решимости пойти по пути, который приведет его однажды сюда, на самый толстый сук мангового дерева, заставит раскачиваться на ветру, словно безжизненную тушу…
Наконец Жан-Малыш решился выйти из туманной мглы на свет, и стражники, не веря своим глазам, раскрыли рты в глуповатой, ошарашенной улыбке, окаменели перед могучей фигурой с опущенными, как у покойника, веками. Схватив их за шеи, Жан-Малыш столкнул их пару раз лбами; он не собирался раскалывать их котелки, как кокосовые орехи, совсем нет, он хотел только, чтобы в голове у них слегка помутилось, чтобы они вздремнули маленько. Потом он удобно уложил их рядышком и тихо прошептал: «Пусть кровь ваша не будет водицей, а глаза всегда открыты — вот и все, что может вам пожелать покорный ваш слуга, идущий на смерть». Он подошел к манговому дереву, снял с веревки тело друга и перенес его к огню. Путы на запястьях были стянуты такими тугими узлами, что пришлось рассекать их ножом. С хрустом встали на место освобожденные плечевые суставы; Ананзе медленно повел еще косящими глазами, и глаза эти были будто ручейки, что устояли перед зноем, не высохли до конца и теперь собирались с силами, чтобы вновь устремиться в путь…
Жан-Малыш не мешкая собрал у костра все, что мог с собой захватить: ружье и патронташ, тесак и алюминиевую флягу, потом он накинул на Ананзе одежду одного из рабов, завернул его истерзанное тело в одеяло и осторожно поднял на плечо…
Ноша показалась ему необычайно легкой; и, снова нырнув в туман, он на миг приостановился, чтобы утереть слезы, которые слепили его, застилали глаза под закрытыми веками, сливались с восходящими к небу потоками влаги…
Когда они добрались до водопада Брадефор, Вечный Юноша еще спал. У подножия скалы по-прежнему стояла рубленая лачуга — видно было, что с тех пор, как пропало солнце, сюда никто не заглядывал. Жан-Малыш уложил друга на ложе из сухих веток и вытащил из котомки незатейливые приспособления для добывания огня: камень с круглой выбоиной посередине, деревянный штырь и уцелевший охлопок пакли. Невдалеке широко разливалось все то же озеро, в которое с тридцатиметровой высоты низвергалась колонна воды. Его охватило странное волнение при виде незыблемости этого погруженного во мрак мира. Деревья по-прежнему подступали к самым скалам, с которых ниспадал дождь лиан; они покрывали отвесный склон тонким плотным ковром, цепляясь за малейшие неровности каменной стены. И рокот водопада был точно такой же, какой он слушал в этом лесу сорок-пятьдесят лет назад — и еще несколько вечностей, если быть точным. Он подошел к воде и, нагнувшись над плоским, гладко-нежным, муаровым листом сигины, поцеловал его, словно губы женщины. Потом, вытянувшись в струну, он нырнул в водяную кипень и поплыл вдоль крутого берега, как и много лет назад, отыскивая норы и щели, в которых прячутся усатые бычки и лобаны. Чуть позже, нанизав свой улов на обруч из гибкого прута, он не спеша побрел по окрестностям в поисках целебных растений, которые раньше здесь собирала матушка Элоиза. Ему удалось также найти нетронутый клочок земли со съедобными корешками и два-три уцелевших банановых дичка, раскинувших посреди поляны опахала своих листьев, — последнее напоминание о некоем Крестоне Блаженном, который в полном одиночестве, вконец одичав и бегая нагишом, жил в этих местах за несколько лет до рождения Жана-Малыша. Пока в углях пеклись бананы и рыба, он растер между ладонями несколько мясистых листов алоэ и наклонился над израненным телом друга. Он натер его густым соком с головы до ног, не забыв ни одного мускула, ни одной жилки, проходя вдоль самых затаенных протоков крови, как это делала матушка Элоиза, заживляя своими тонкими, зелеными, будто ящеричья кожа, пальцами болячки и раны. Через некоторое время в открытую дверь вползла светлая ночь, и Ананзе медленно поднял веки. Распухшие губы разошлись в неуверенной улыбке, в ней было и лукавство, и безумная надежда того, кто, хоть и догадался, что с ним сыграли злую шутку, все же верит, верит, несмотря ни на что, в лучшую участь.